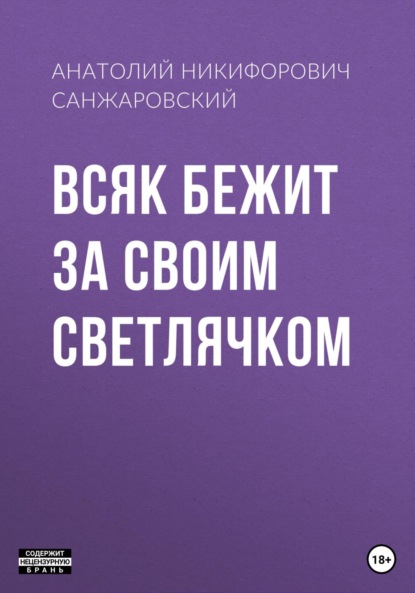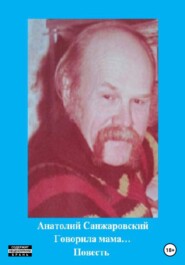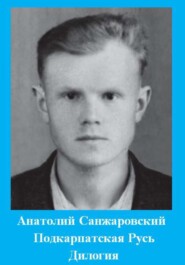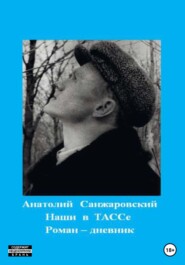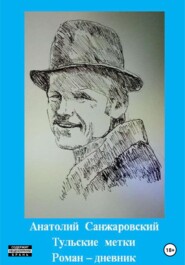По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Всяк бежит за своим светлячком
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У меня похолодело в животе.
– Бумажными нет и рубля, а так… тёр да ёр… Мелочишка кой да какая брякает.
– Ну, с бряка навар не густ…
Старуха властно положила руку мне на куполок, повернула голову – в открытом окне я вонзился взглядом в висячие часы-стуколки в моей каморке. Было восемь с копейками.
И, утягивая в себя злость, заговорила глухим, ровным, каким-то отдыхающим, голосом:
– Ровно двадцать три дня назад, именно в это телячье время[62 - Телячье время – ранний вечер.] вы пригремели ко мне. Эвот и отплатили ровнёхонько за двадцать три денёшка. Так что расчётушка уже полный вам сдан. Тика в тику. Даже с лихвой. Ты уже девять минут тут лишних… Посверху платы… Видит Боженька, я тебя не задёрживаю…
Я опустил голову.
– Что ж, расценённый,[63 - Расценённый – бесценный.] молчишь? – полупримирительно, как показалось мне, спросила старуха.
Я молчал.
Не поднимая голоса, по инерции доругиваясь, она бросила полулениво:
– А то вырешил… Гм… За меня… Да будет, как я положу!.. Э-э-э! Да чего сажать к себе на хвост приключенью? На коюшки мне с тобой судомиться?[64 - Судомиться – возиться.]
Старуха дёрнулась в ветхие недра своего чума.
И через минуту шлёпнула на лавку мой паспорт.
– Вот твоя бирка! Чего же тереть тут бузу? Забирай и с Богом!
– На дворе же ночь… – пробормотал я.
– Но и мой дом тожеть не вокзал! – тихо отстегнула она. – Это вокзал – общежитие для бездомовников. Это на вокзале забесплатно живи не хочу!.. Утаскивайся отсюдки, пока я не саданула тебя тёщиным язычком! – и уставилась на кактус с длинным плоским стеблем в маленьком горшке у крылечка.
Наплыла на глаза старуха.
Твердея, я возразил:
– Мне рано на вокзал. Брат уехал шесть дней назад. Так он и за меня, и за себя под перёд дуриком заплатил вам по день моего последнего экзамена! То есть по сегодня! Заплатил за двоих по сегодня! Так чего ж мне не пожить, пока не придут от матери деньги?
– Дёржать тебя одного в комнате? Не дюже ли жирно будет?
– Ну брат же заплатил!
Старуха щитком выставила мясистую, гладкую руку, похожую на грубо отёсанное полено:
– То браткина печаль. С тобой не кинусь судить-рядить её. Так что тебе самая пора налаживаться на вокзалий… Куда хочешь… Чего тут брехню пилить?
Старуха снова шатнулась в сумерки хибарки и вынырнула оттуда уже с моим обшарканным фанерным чемодаником – схвачен посерёдке белой бечёвкой. Она не отдала его мне, а зло выпихнула за калитку:
– С такими заворотами место за воротами! С Богом! Разойдёмся миром!.. Покудушки зятька… одномандатника[65 - Одномандатник – верный муж.] не кликнула…
Негнущимися, окаменелыми пальцами взял я за бечёвку чемодан и шатко побрел прочь от этого двора.
Последний поворот.
Уже виден вокзал.
Сделав шага три за поворот, я зачем-то обернулся и увидел: следом понуро тащились Милорд и Варсонофий.
Как раз на повороте они сели.
Я позвал.
Ни Милорд, ни Варсонофий даже не шелохнулись.
Почему они не шли дальше? Боялись вокзала?
Чемодан вывалился у меня из руки; я оставил его лежать и пошёл назад к Милорду и Варсонофию.
Милорд как-то виновато, тяжело подал мне лапу.
Я взял лапу обеими руками, прижался к ней щекой и заплакал…
6
Наши недостатки так и рвутся к чужим достоинствам.
Г. Малкин
Проснулся я от тычка в подбородок.
Смотрю: у самого моего носа ступня в простом сером чулке. Иду глазами вверх по чулку. Чулок забегает, прячется под синюю юбку. Шаловатый продроглый сквознячок, бежавший из города в приоткрытую дверь, безуспешно заигрывал с краем свесившейся с коленки юбки, будто норовил унести её в тоннель, пустой и таинственно мрачный; юбка лишь лениво, равнодушно покачивалась, вроде как отмахивалась.
Иду выше.
Девичье лицо. Глаза прикрыты от света носовым платком. Интере-есно! Со мной на одной скамейке спит валетом какая-то привлекалочка!
Я приподнялся на локоть, открыл ещё одну подробность: между нами лежал, коричнево отливая, костыль в коротком резиновом носочке.
Руки девушки вытянуты ладошками кверху. Составленные вместе, они походили на ковшик. Казалось, она что-то подавала. Иллюзия была настолько сильна, что я поддался соблазну и заглянул в ковшик, надеясь что-нибудь диковинное увидеть в нём, но ничего не увидел, однако чему-то легко улыбнулся, легко и радостно: её ладошки пахли розами.
Я никогда не видел так близко лица спящей незнакомой девушки. И лежать ещё на одной лавке… Не слишком ли?
Мне стало не по себе.
Стыд поджёг меня.
Я тихонько подул проказнице в лицо.
– Э-эй… проснитесь… – шёпотом попросил я.
– Бумажными нет и рубля, а так… тёр да ёр… Мелочишка кой да какая брякает.
– Ну, с бряка навар не густ…
Старуха властно положила руку мне на куполок, повернула голову – в открытом окне я вонзился взглядом в висячие часы-стуколки в моей каморке. Было восемь с копейками.
И, утягивая в себя злость, заговорила глухим, ровным, каким-то отдыхающим, голосом:
– Ровно двадцать три дня назад, именно в это телячье время[62 - Телячье время – ранний вечер.] вы пригремели ко мне. Эвот и отплатили ровнёхонько за двадцать три денёшка. Так что расчётушка уже полный вам сдан. Тика в тику. Даже с лихвой. Ты уже девять минут тут лишних… Посверху платы… Видит Боженька, я тебя не задёрживаю…
Я опустил голову.
– Что ж, расценённый,[63 - Расценённый – бесценный.] молчишь? – полупримирительно, как показалось мне, спросила старуха.
Я молчал.
Не поднимая голоса, по инерции доругиваясь, она бросила полулениво:
– А то вырешил… Гм… За меня… Да будет, как я положу!.. Э-э-э! Да чего сажать к себе на хвост приключенью? На коюшки мне с тобой судомиться?[64 - Судомиться – возиться.]
Старуха дёрнулась в ветхие недра своего чума.
И через минуту шлёпнула на лавку мой паспорт.
– Вот твоя бирка! Чего же тереть тут бузу? Забирай и с Богом!
– На дворе же ночь… – пробормотал я.
– Но и мой дом тожеть не вокзал! – тихо отстегнула она. – Это вокзал – общежитие для бездомовников. Это на вокзале забесплатно живи не хочу!.. Утаскивайся отсюдки, пока я не саданула тебя тёщиным язычком! – и уставилась на кактус с длинным плоским стеблем в маленьком горшке у крылечка.
Наплыла на глаза старуха.
Твердея, я возразил:
– Мне рано на вокзал. Брат уехал шесть дней назад. Так он и за меня, и за себя под перёд дуриком заплатил вам по день моего последнего экзамена! То есть по сегодня! Заплатил за двоих по сегодня! Так чего ж мне не пожить, пока не придут от матери деньги?
– Дёржать тебя одного в комнате? Не дюже ли жирно будет?
– Ну брат же заплатил!
Старуха щитком выставила мясистую, гладкую руку, похожую на грубо отёсанное полено:
– То браткина печаль. С тобой не кинусь судить-рядить её. Так что тебе самая пора налаживаться на вокзалий… Куда хочешь… Чего тут брехню пилить?
Старуха снова шатнулась в сумерки хибарки и вынырнула оттуда уже с моим обшарканным фанерным чемодаником – схвачен посерёдке белой бечёвкой. Она не отдала его мне, а зло выпихнула за калитку:
– С такими заворотами место за воротами! С Богом! Разойдёмся миром!.. Покудушки зятька… одномандатника[65 - Одномандатник – верный муж.] не кликнула…
Негнущимися, окаменелыми пальцами взял я за бечёвку чемодан и шатко побрел прочь от этого двора.
Последний поворот.
Уже виден вокзал.
Сделав шага три за поворот, я зачем-то обернулся и увидел: следом понуро тащились Милорд и Варсонофий.
Как раз на повороте они сели.
Я позвал.
Ни Милорд, ни Варсонофий даже не шелохнулись.
Почему они не шли дальше? Боялись вокзала?
Чемодан вывалился у меня из руки; я оставил его лежать и пошёл назад к Милорду и Варсонофию.
Милорд как-то виновато, тяжело подал мне лапу.
Я взял лапу обеими руками, прижался к ней щекой и заплакал…
6
Наши недостатки так и рвутся к чужим достоинствам.
Г. Малкин
Проснулся я от тычка в подбородок.
Смотрю: у самого моего носа ступня в простом сером чулке. Иду глазами вверх по чулку. Чулок забегает, прячется под синюю юбку. Шаловатый продроглый сквознячок, бежавший из города в приоткрытую дверь, безуспешно заигрывал с краем свесившейся с коленки юбки, будто норовил унести её в тоннель, пустой и таинственно мрачный; юбка лишь лениво, равнодушно покачивалась, вроде как отмахивалась.
Иду выше.
Девичье лицо. Глаза прикрыты от света носовым платком. Интере-есно! Со мной на одной скамейке спит валетом какая-то привлекалочка!
Я приподнялся на локоть, открыл ещё одну подробность: между нами лежал, коричнево отливая, костыль в коротком резиновом носочке.
Руки девушки вытянуты ладошками кверху. Составленные вместе, они походили на ковшик. Казалось, она что-то подавала. Иллюзия была настолько сильна, что я поддался соблазну и заглянул в ковшик, надеясь что-нибудь диковинное увидеть в нём, но ничего не увидел, однако чему-то легко улыбнулся, легко и радостно: её ладошки пахли розами.
Я никогда не видел так близко лица спящей незнакомой девушки. И лежать ещё на одной лавке… Не слишком ли?
Мне стало не по себе.
Стыд поджёг меня.
Я тихонько подул проказнице в лицо.
– Э-эй… проснитесь… – шёпотом попросил я.