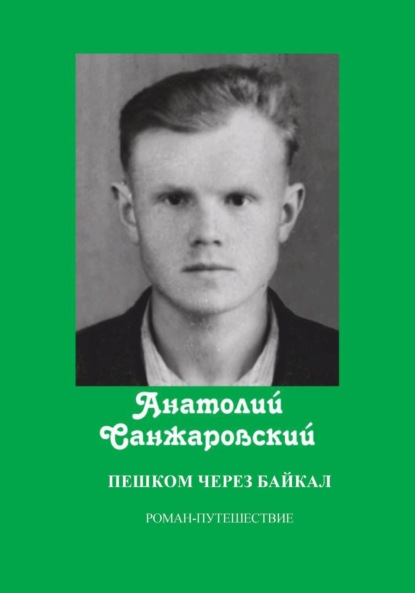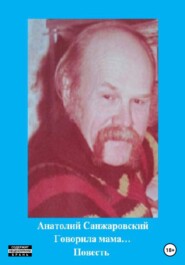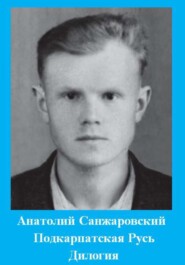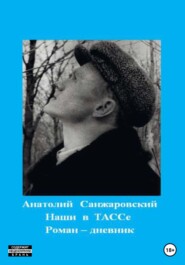По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пешком через Байкал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да-а, подлип жуткий…
– Видимость на нуле…
На построении я рядом со Светланой. Ещё того чище. Держу её лыжи, сундучок.
– Товарищ медицина, – подкатываюсь, – а пока вы с визитом вежливости пребывали в столовой, одну снегурочку ох и допекали зубы…
– Что ж не позвали?! – сине полыхнула Светлана глазищами. – Я ж вам на то и говорила, куда пошла!
До чего она переменчивая да нарывистая! Ещё мгновение назад была сама сватая кротость и на! Отчаянное недоумение, попрёк неотмолимый окаменели во взоре.
– Знаете… как-то не подумалось, – припоздало почувствовав свою вину, смято обронил я. – Извините.
– И не подумаю! – с вызовом, сухо бросила она вполголоса. – Будто от ваших извинений легче той девушке. Гляньте, нет ли её поблизости?
Выломился я по пояс из строя, перебрал ближних по левую руку, перебрал по правую.
– А знаете, не вижу… Да вы уж не убивайтесь. Возможность исправиться Бог подаст. У меня такое предчувствие, вагон ещё хлопот свалится сегодня на ваши хрупкие плечи. И потом, ничего ж страшного и не было у той де…
– Конечно, конечно! – отчуждённо перебила она. – Чужая боль с мармеладом.
– С мёдом! – взмыл я на дыбки. Нотаций я не терпел.
– В таком случае, – слабо, без силы почти она чуть качнула верх лыж к себе, как бы пробуя нехотя, крепко ли я держу, но и этой невольности вполне хватило, чтоб завёлся я окончательно. Я подтолкнул лыжи к ней, чему она в первое мгновенье удивилась, растерялась даже, однако скоро собрала себя и уже в следующее мгновенье вовсе без колебаний, со спокойным хладнокровием тянула лыжи к себе; я не сопротивлялся; напротив, услужливо протянул ей и сундучок, – в таком случае, – в зыбкой досаде, полуобидно повторила она, принимая свой скарб, – отдавайте мои игрушки. Я больше не играю с вами.
– А я с вами.
Опустелые зябкие руки тотчас налились тяжестью, сами собой с виноватой бережью потянулись к лыжам, к сундучку взять назад – узкая, высокая ладошка в пуховой варежке всплыла заградительным щитком. Не надо, не надо!
Прогромыхал, подгоняемый снежным вихрем, товарняк.
Голова колонны двинулась, помела через рельсы к берегу.
Берег какой-то хитроватый, со ско?льзом. Сверху снег, а под снегом наплески – ледяная корка, нагнанная с осени прибоем.
Первые падения, первые восторги…
У откоса все выстраиваются в одинарку, друг за дружкой, потихоньку переступают по мере того как медленно уходят, втаиваются в смоль ночи передние.
Им-то, ждунам, что? Им всем можно не спешить. Тропить, бить лыжню им будут другие. Только мне какой привар с той лыжни?
Как птенец из гнезда, вывалился я из цепи и рядом с нею, не дав ловкости ногам, кубарем скатился с возвышенки.
Под ногами Байкал…
Лёд тяжело засыпан, снегу не по колено ли.
Я оглядываюсь, но ничего не вижу кроме снега под собой, кроме снега сверху, кроме снега вокруг – ночной, слепой круговерти. И если б не весёлые голоса за спиной, подумалось бы, что стою где- нибудь в глухой степи.
Как человек, не лишенный некоторой обстоятельности, я постучал каблуком в очищенное от снега круглое оконце льда. Ничегошеньки, не ухнул. Держит!
Можно теперь спокойно и в путь.
Подправил рюкзак, одёрнул штормовку и, вежливо выждав, когда ходко тронется первый лыжник, изо всех рысей помёл рядом с ним, помёл по целику, до колен уваливаясь в высокий снег.
Слышу, загребаю, черпаю эту развезень ботинками.
На счастье, в кармане вчерашняя газета.
На бегу деру, жмакаю в катышки; сковыриваю со щиколоток набряклые снеговые дужки-вдавыши, тесно набиваю бумагой ботинки.
Без останову напихал в оба – ни на волос не отстал, не отлип от лыжника; мнём-давим снег, идём на ровнях, бровь в бровь.
Эге-ге-е!
Да теперь, как разделался я с экипировкой, так и рвёт обставить! Теперь чертоломить я гор-разд!
Не знаю, какая сточёртова сила корёжится, куражится во мне, мчит как оглашенного – на целый локоть выхлестнула вперёд!
Мне радостно бежать, радостно оттого, что у меня, безлыжного, вал валом валит за спиной лыжников да тёмная ещё толпа набита на берегу, как мурашей на кочке! – и счастливо-шальная мысль, что вот возьму да и заявлюсь на легкой ноге в Листвянку раньше всех них скопом взятых, хмелит, кружит голову: вот тот-то выворочу пасьянс!
Я подмигиваю приотставшему сопуну. Ну-ну, паренёк-огонёк! Парку!
Смертвил зубы мрачный гордец, наддал из крайней крайности, с большими трудами на капельку подобрался. Но всё одно хоть на ладошку какую, а первина за мной.
– Слабо, слабо-о… Огорчаете, вьюноша!
Улыбнулся я весёлой мысли про то, что первый промежуточный финиш сгрёб-таки я, переключился я, потаённо отдыхиваясь, на шаг вприбежку. Кинул малому ручкой:
– Слава чемпиону!
И, не убирая с него глаз, захлёбисто, анархически подрал песняка с торжества:
– А мороз печёт, а снежок сечёт,
А верблюд идёт не спеша.
Ни к чему метро и такси ничто —
Для верблюда жизнь и так хор-ро-о-ш-ша-а-а!
С застылым лицом прожёг ветрогон мимо, поворотил голову, основательно поставил подбородок на плечо.
– Ну что, порох подмок? – спросил он с ростягом, ехидно, исподтишка оскаляя, вымещая злость.
Ах ты!.. Будет ещё выставлять зубы! Да за таковский выходо?к…
В момент я снова подле него.
– Так что там с порохом, омулёвый твой нос? Намок, говоришь? А давай подсушим!