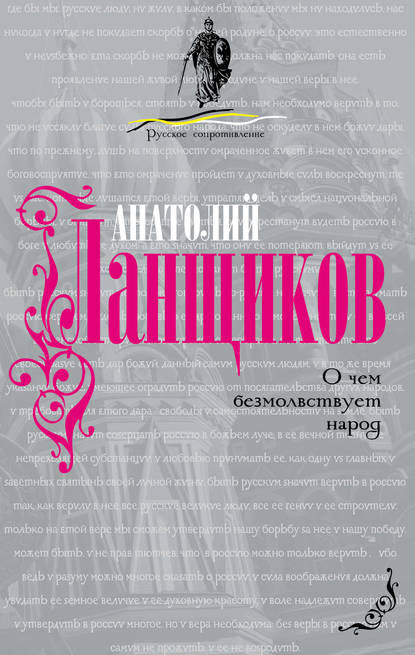По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О чем безмолвствует народ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Скажите, ну, а если бы «помехой» были бы не экзамены, если бы просто какого-нибудь специалиста (врача, инженера и т. д.) спросили: «Хочешь иметь такого ученика, продолжателя твоего дела?» Навряд ли кто дал бы утвердительный ответ. На чем же тогда основаны притязания Подгурских? Чем их привлекают вузы? Нет, тут и речи не может быть о призвании. Героев заботит их социальное будущее – и только. Вуз – значит, ты уже не рабочий, и не крестьянин, и не солдат, остальное неважно. А на каком основании? Это тоже неважно.
Подгурские миллионов не имели, жили они в той стране, где в определенном возрасте требуется четкое социальное самоопределение. В элиту «интеллектуалов» они не попали, теперь им предстояло сделать выбор между рабочим классом и классом крестьян. Но именно эта альтернатива их и напугала. Они не повторили судьбу своих предшественников, они предстали перед принципом «конкурсного отбора» («в вузы попадают самые лучшие»), и их «голубые параллели» неожиданно были разбиты вдребезги.
Так «четвертое поколение» дало общественный тип, который в своей элитарной тенденции нашел последователей в «поколении 1953 года», причем речь идет только об одной и притом наименьшей части того и другого поколения.
5
На время оставим Виктора Подгурского и вернемся к его предшественникам, которые пришли в аудитории институтов и университетов в конце 40-х – начале 50-х годов, не научившись думать, но зато-де крепко веруя. Ф. Кузнецов (по его же собственному свидетельству), как и герои романа В. Рослякова «От весны и до весны», учился в то время на отделении журналистики филологического факультета МГУ. И тут позволительно спросить уважаемого критика: неужели до будущих журналистов никоим образом не докатились различного рода «мероприятия», столь широкой волной захватившие другие факультеты МГУ?
Юридический факультет, скажем, не мог отнестись безразлично к теории Вышинского «о презумпции виновности в пролетарском государстве». Биологи были хорошо наслышаны об августовской сессии ВАСХНИЛ. Физиков обязали не признавать кибернетику и т. д. Неужели все эти «мероприятия» не наводили ни на какие мысли? Неужели никто не думал? А может, боялись думать? Может быть. Только здесь не нужно злоупотреблять словом «все». Кто-то не думал. Кто-то боялся думать, но думал. Кто-то просто думал. А кто-то просто боялся. Верно и то, что в это время кое-кто занимался строительством «голубых параллелей». Но и здесь следует оговориться: занимались столь безмятежным делом тоже не все.
Теперь, кажется, начинаешь понимать, почему Ф. Кузнецов сочинил теорию о «бездумных временах». Действительно, герой, о котором идет разговор, порой веровал до самозабвения. Верил сильнее всех. Но… не бескорыстно. Дело в том, что из числа других его выдвигала, делала «исключительным» особая вера – та, что сулила добрую перспективу служебного преуспеяния. А это для него было уже немало.
Кому-то может показаться оскорбительным столь нелестный вывод о герое, который привык показываться на люди в очень гордой позе. Но вспомните, как безжалостен он был не только к поколению «отцов», но и к своим братьям и сестрам, по судьбам которых война прошлась со всей беспощадностью.
Однако пойдем дальше. 1956 год. Двадцатый съезд партии. Борьба с культом личности и его последствиями. Наш герой сразу же переориентировался и с какой-то мстительной ожесточенностью стал открещиваться от прежней своей «веры». Он понял: слепая вера обесценилась – и бросился осуждать всех и вся. Ф. Кузнецов счел этот маневр за признак особого ума, за некую исключительность. А вот А.С. Пушкин сто с лишним лет назад заметил: «Глупость осуждения не столь заметна, как глупая хвала…» И лично я склонен думать, что герою «исповедальной» прозы только показалось, что он начал думать, а на самом деле от неумения мыслить он перешел именно к «глупости осуждения».
Итак, для героя «исповедальной» прозы прежде «символом веры» была бездумная вера, теперь для него наступило время бездумного неверия. Раньше он идеализировал «голубые параллели», теперь стал идеализировать отсутствие идеалов. И снова поторопился продемонстрировать свою исключительность, но только на другой основе. Во всяком случае, терять своих позиций он не собирался.
Летом 1966 года был опубликован роман В. Рослякова «От весны до весны». «Мне трудно говорить об этом произведении с позиции критика, – трепетно признается Ф. Кузнецов, – когда знаешь каждый прототип романа, когда видишь в произведении в первую очередь свидетельство очевидца о событиях, которые и тебя касались кровно». Что ж, это недурно, когда и писатель, и критик лично знают предмет, о котором взялись судить. В достоверности описываемых событий уже нет оснований сомневаться. Но диву даешься, когда видишь, какая горечь и тоска сквозят в словах критика при воспоминании о несвершившихся сомнительных мечтах своей юности:
«Критический огонь собрания был направлен прежде всего против бездарных преподавателей, против «демагогии, лицемерия и фальши» на своем родном факультете.
Недовольство студентов положением дел на факультете было справедливым, и их требования, казалось бы, практически выражали дух нового времени – тем труднее юным борцам было понять и осмыслить последующее развитие событий. Тот самый декан и те самые преподаватели, чья творческая несостоятельность и несоответствие духу времени не вызывали у них сомнений, не только остались на местах, но и дали «соответствующую квалификацию» своим беспокойным воспитанникам…»
Возникает вопрос: а судьи кто? Нет, Ф. Кузнецов и сейчас «не осмыслил последующее развитие событий», а «дух нового времени» понимает весьма своеобразно.
Но допустим, мечты наших героев осуществляются: герои В. Рослякова изгоняют из университета (не «остались на местах») декана и неугодных им преподавателей. «Юные борцы», восстанавливая справедливость, под свист и улюлюканье (лиха беда – начало) выдворяют их из аудитории. Потом… А не с того ли начинали и «юные борцы» одного из сопредельных государств, которые потом попросту стали называться хлестким, словно бич, словом хунвэйбины?
Нет, я вовсе не собираюсь оправдывать Лобачевых и Таковых. XX съезд партии вынес им свой исторический приговор. Но я против того, чтобы роль Фемиды представлялась первому, ее возжелавшему; я против того, чтобы, осуждая одну несправедливость, воздвигали другую. Мне тоже несколько известны студенческие нравы тех лет, и здесь энтузиазм умиления порой уступает у меня место другим, более критичным чувствам: ведь в период проведения различных «мероприятий», о которых я уже говорил, иные преспокойно и самозабвенно строили «голубые параллели».
Появление «нового характера» Ф. Кузнецов связывает с 1956 годом, то есть с XX съездом партии. Он так и пишет: «Решение съезда разбудило в них революционное юношеское нетерпение выкорчевать зло немедленно, исправить все ошибки сразу». По мнению критика, герой «исповедальной» прозы «в потенции характер глубокий, цельный, непримиримый, щедро открывшийся новому времени. Характер с идейным стержнем, заложенным всем предшествующим воспитанием, но получивший свою первую закалку в бурный, противоречивый 1956 год».
Теперь сопоставим некоторые положения. С одной стороны, утверждалось: герой «исповедальной» прозы рожден XX съездом партии; с другой – «исповедальная» проза началась с повести А. Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского».
Ф. Кузнецов, видимо, уверен, что ни у кого не хватит терпения перечитать, скажем, гладилинскую «Хронику…», где черным по белому засвидетельствовано: «Поэтому в 1953 году большинство восприняло свою неудачу как трагедию». Итак, оказывается, Подгурские-то появились в 1953 году, а не в 1956-м.
А как же тогда быть с уверениями критика о том, что герой «исповедальной» прозы есть «первая реакция молодых» на «общественное потрясение, пережитое всеми в 1956 году»? А может, Подгурские на несколько лет предвосхитили решения XX съезда? Может, они-то и дали нам «пятьдесят шестой год»? Но это что-то никак не вяжется с обликом бездумных мечтателей о «бесконечных голубых параллелях».
6
Для некоторых слова «свобода», «мятеж», «бунт», «революция» и производные от них стали фетишем. Но не существует абстрактной свободы, как не существует абстрактной революции или мятежа. Без социально-исторического наполнения эти слова приобретают слишком неопределенное звучание, чтобы при их содействии можно было бы объективно охарактеризовать какие-то серьезные явления нашей действительности.
Иным критикам казалось, что безотчетная тяга героев «исповедальных» повестей к вояжам в Сибирь или к берегам Прибалтики есть не что иное, как безудержное стремление к свободе, к самостоятельности. Очень может быть, но вот только подобная охота к перемене мест еще более неуемно проявлялась, скажем, у босяков – героев раннего творчества М. Горького.
«…B босяки бы лучше уйти… Там хоть голодно, да свободно – иди куда хочешь! Шагай по всей земле!» («Супруги Орловы»).
«Долго не стой на одном месте, – советует Макар Чудра, – чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее… А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда так бывает» («Макар Чудра»).
Но не только тяга к «путешествиям» сближает горьковских босяков и героев «исповедальной» прозы. Они поразительно единодушны и в своей активной неприязни к трудовому народу.
«Я, видишь ты, всех мужиков не люблю… сволочи! Они прикинутся сиротами – им и хлеба дают и – все! У них вон есть земство, и оно все для них делает… Хозяйство у них, земля, скот…» – злопыхает Сережка («Мальва»).
А припомните знаменитый монолог Сатина: «…Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна – я, может быть, буду работать… да! Может быть!»
Вот это издевательское «может быть» свидетельствует об атрофии гражданских и классовых чувств у героев. И пусть нас не смущают слишком категоричные суждения о Сатине как о выразителе чаяний народных. Сам М. Горький, видя, как порой бездумно романтизируют его босяков, в статье «О пьесах» писал: «Сатин – дворянин, почтово-телеграфный чиновник, отбыл четыре года тюрьмы за убийство, алкоголик и скандалист…»
Конечно, причины, породившие горьковских босяков и героев «исповедальной» прозы, различны. К тому же если первые были выброшены жизнью на «дно», то перед вторыми, напротив, открывались все дороги, распахивались все двери. Но предубеждение к труду, особенно к «черному», на какое-то время ставило их в положение деклассированных элементов, разжигало в них далеко не лучшие чувства. Эгоцентризм и необоснованные претензии на исключительность как горьковских босяков, так и «исповедальных» героев позволяют уловить по меньшей мере психологическое сходство между ними, хотя, разумеется, здесь не может быть речи о полном тождестве.
Эгоцентризм «исповедального» героя вынужден признать даже Ф. Кузнецов, хотя он делает это скорее только для видимости. Он произвольно пристегивает к слову «эгоцентризм» эпитет «полемический» и сразу же превращает первое понятие почти в его противоположность. Или вот еще: «…средоточие внимания на собственной личности». Значит, эгоизм? Не будем торопиться, ведь через запятую дальше пойдет: «…на проблемах личной нравственности». Это уже что-то наподобие толстовского «нравственного самоусовершенствования», только малость посложнее. Теперь можно признаваться и в эгоцентризме, поскольку толком не поймешь, но догадаешься: сие есть что-то исключительное и очень симпатичное.
Но нам не нужны никакие эффекты, в том числе и литературные. Явление «исповедального» героя не так уж и безобидно, как может показаться на первый взгляд. Только поняв общественную сущность и психологию этого героя, можно объяснить появление в нашей жизни различного рода молодых тунеядцев и других деклассированных элементов. И незачем нам лакировать героя, разъедаемого откровенным эгоцентризмом, и незачем это понятие затуманивать амортизирующими эпитетами. Ясно одно: «исповедальный» герой вовсе не «плоть от плоти нашего общества» и тем более не «квинтэссенция нравственных основ его». Раскрой социальное инкогнито этого героя, которое всеми правдами и неправдами старается сохранить Ф. Кузнецов, и перед нами предстанет психологический тип, лишенный социальных связей с трудовыми классами, демонстрирующий нам то приступы острого нигилизма, то не менее острые приступы бездумной веры, оставаясь при этом совершенно невосприимчивым к гражданским и патриотическим чувствам своих современников.
Лев Толстой в последние годы своей жизни пришел к такой системе определения человеческих характеров: «Люди живут своими мыслями, чужими мыслями, своими чувствами, чужими чувствами (то есть понимать чужие чувства, руководствоваться ими). Есть люди, не имеющие почти никаких, ни своих, ни чужих мыслей, ни своих чувств и живущие только чужими чувствами; это самоотверженные дурачки, святые. Есть люди, живущие только своими чувствами, – это звери. Есть люди, живущие только своими мыслями, – это мудрецы, пророки; есть – живущие только чужими мыслями, – это ученые глупцы. Из различных перестановок по силе этих свойств – вся сложная музыка характеров».
Теперь прикинем нашего «исповедального» героя на эти своеобразные «весы» человеческих характеров и посмотрим, где же остановится стрелка. Мыслить он не умел – здесь у нас нет расхождений даже с Ф. Кузнецовым. Герой обостренно чувствовал – это факт. Чьими чувствами он был занят? Разумеется, своими (эгоцентризм, пусть даже и «полемический», «средоточие внимания на собственной личности» и т. д.). По Толстому, наш герой оказывается… зверем. Спорно? Возможно. Но спорна лишь степень, а не сущность. Во всяком случае, у нас есть и литературные свидетельства.
Возьмем повесть Георгия Садовникова «Суета сует». Главный ее герой, студент Лев Зуев, от лица которого ведется повествование, – духовный побратим «исповедального» героя.
Г. Садовников не пользуется никакими приписками и лакировкой, он показывает своего героя именно таким, каков он есть на самом деле, а не каким тот хочет казаться. Писатель позволяет заглянуть нам во «внутреннее подполье» героя, понять его антиобщественную сущность.
Зуев с виду «хороший» парень. Он ироничен, как и подобает быть современному молодому человеку, критически воспринимает действительность – тоже как и подобает быть молодому современнику. С первого взгляда Зуев даже коллективист. Но Г. Садовников не ограничивается «первым взглядом», он изучает логику развития своего героя, а эта логика приводит Зуева к предательству. Казалось, он делит со своим другом Кириллом Севостьяновым и невзгоды, и радости, но так только казалось. В трудную минуту Зуев предал Кирилла. А как же иначе? Ведь в общем-то Зуев жил только своими чувствами.
Ф. Кузнецов не включил в свой разговор о молодой прозе повесть Г. Садовникова. А жаль!
7
Мысль, что «исповедальная» проза в современной нашей литературе стоит особняком, я вовсе не собираюсь приписывать себе. В последние годы многие критики доказывали это. Особенно определенно высказался критик А. Макаров: «На какое-то время как бы даже две литературы образуются: одна для, так сказать, обыкновенных людей, другая – юношеская, молодежная, да не та поучительно-назидательная, что бывшими педагогами сочиняется, а свойская, саморожденная. И это будет литература спорная и спорящая». И дальше: «…пожалуй, именно с повести Аксенова все же начинается большой разговор, выделивший «молодежную тему» как бы в особую линию в литературе, и самый журнал «Юность» приобретает физиономию, отличную от других журналов».
Теперь воспользуемся той «выгодой», что дает критику «дистанция времени», и поговорим об «особой линии в литературе», об этой «саморожденной» прозе. Ведь до сих пор мы вели разговор о судьбе поколения, давшего нам эту прозу, о ее герое и почти не касались ее художественных достоинств. Не станем отбирать для анализа произведения, которые, по общему мнению, не являются лучшими: нас будут интересовать не издержки этой прозы, а, так сказать, образцы, в которых наиболее ярко отразились ее устойчивые эстетические признаки.
А. Макаров, говоря о повести В. Аксенова «Апельсины из Марокко», замечает: «Персонажи повести, хотя и принадлежали к различным слоям, все оказывались на одно лицо, и если бы автор любезно не сообщал перед каждой главой, кто получает слово, различить, кто говорит, было бы трудно даже профессору Хиггинсу».
Претензии серьезные и вполне обоснованные. Ну, какой же тут может быть разговор о художественных достоинствах? Но аксеновские повести критиковались уже достаточно. Другое дело – его рассказы. Именно в них Ф. Кузнецов находит подтверждение писательской зрелости В. Аксенова. Вот мы и ограничим свою задачу разговором о его рассказах.
Рассказ В. Аксенова «Завтраки 43-го года» критикой почти единодушно признается лучшим. Вот кратко его суть: в сорок третьем году «переросток» отнимает школьные завтраки у своих одноклассников. Спустя много лет один из пострадавших и человек, напоминающий того «переростка», случайно встречаются в поезде. Бывшие одноклассники идут в вагон-ресторан, за обедом, естественно, начинают вспоминать годы детства. Композиционно рассказ строится очень несложно, происходит почти механическое чередование кусков из прошлого и настоящего.
Правда, Ф. Светов видит в такой композиции нечто необычное: «В прошлом веке писатели в таких случаях поступали просто: на десятках страниц пространно излагали биографии героев. Современные авторы тяготеют к более сложной композиции».
Ну, положим, в прошлом «биографии героев» тоже не всегда излагались на «десятках страниц». Но, думается, в интересах самой же «исповедальной» прозы лучше не сравнивать ее с произведениями минувшего века.
По справедливым словам А. Макарова, у В. Аксенова к моменту написания повести «была выработана манера письма, набита рука в приемах перекрестного внутреннего монолога, а вот писать оказалось не о чем». Критик фиксирует и еще одно обстоятельство: «В «Апельсинах из Марокко», впрочем, пожалуй, больше сказалось именно желание блеснуть формальной изощренностью».
Итак, В. Аксенов чуть ли не в дебюте попал в самое неприятное положение, когда «писать оказалось не о чем». С одной стороны, не о чем писать, а с другой – желание блеснуть формальной изощренностью. Разве не очевидна взаимосвязь двух этих состояний? Разумеется, «не о чем писать» пришло не от желания «блеснуть формальной изощренностью».
Конечно, писателю могут не удаваться повести или романы, а рассказы удаваться. Слишком много тому примеров, чтобы их приводить здесь. Но у писателя одновременно не может быть две эстетики: одна – для одного жанра, другая – для другого. Если писатель изощряется в повестях, потому как ему не о чем писать, то он так же будет изощряться и в рассказах. «Не о чем писать» одинаково скажется в любом жанре.
А может быть, рассказы В. Аксенова как раз то исключение, что призвано подтверждать правило? Не будем гадать на эту тему, лучше обратимся к самим рассказам.
Подгурские миллионов не имели, жили они в той стране, где в определенном возрасте требуется четкое социальное самоопределение. В элиту «интеллектуалов» они не попали, теперь им предстояло сделать выбор между рабочим классом и классом крестьян. Но именно эта альтернатива их и напугала. Они не повторили судьбу своих предшественников, они предстали перед принципом «конкурсного отбора» («в вузы попадают самые лучшие»), и их «голубые параллели» неожиданно были разбиты вдребезги.
Так «четвертое поколение» дало общественный тип, который в своей элитарной тенденции нашел последователей в «поколении 1953 года», причем речь идет только об одной и притом наименьшей части того и другого поколения.
5
На время оставим Виктора Подгурского и вернемся к его предшественникам, которые пришли в аудитории институтов и университетов в конце 40-х – начале 50-х годов, не научившись думать, но зато-де крепко веруя. Ф. Кузнецов (по его же собственному свидетельству), как и герои романа В. Рослякова «От весны и до весны», учился в то время на отделении журналистики филологического факультета МГУ. И тут позволительно спросить уважаемого критика: неужели до будущих журналистов никоим образом не докатились различного рода «мероприятия», столь широкой волной захватившие другие факультеты МГУ?
Юридический факультет, скажем, не мог отнестись безразлично к теории Вышинского «о презумпции виновности в пролетарском государстве». Биологи были хорошо наслышаны об августовской сессии ВАСХНИЛ. Физиков обязали не признавать кибернетику и т. д. Неужели все эти «мероприятия» не наводили ни на какие мысли? Неужели никто не думал? А может, боялись думать? Может быть. Только здесь не нужно злоупотреблять словом «все». Кто-то не думал. Кто-то боялся думать, но думал. Кто-то просто думал. А кто-то просто боялся. Верно и то, что в это время кое-кто занимался строительством «голубых параллелей». Но и здесь следует оговориться: занимались столь безмятежным делом тоже не все.
Теперь, кажется, начинаешь понимать, почему Ф. Кузнецов сочинил теорию о «бездумных временах». Действительно, герой, о котором идет разговор, порой веровал до самозабвения. Верил сильнее всех. Но… не бескорыстно. Дело в том, что из числа других его выдвигала, делала «исключительным» особая вера – та, что сулила добрую перспективу служебного преуспеяния. А это для него было уже немало.
Кому-то может показаться оскорбительным столь нелестный вывод о герое, который привык показываться на люди в очень гордой позе. Но вспомните, как безжалостен он был не только к поколению «отцов», но и к своим братьям и сестрам, по судьбам которых война прошлась со всей беспощадностью.
Однако пойдем дальше. 1956 год. Двадцатый съезд партии. Борьба с культом личности и его последствиями. Наш герой сразу же переориентировался и с какой-то мстительной ожесточенностью стал открещиваться от прежней своей «веры». Он понял: слепая вера обесценилась – и бросился осуждать всех и вся. Ф. Кузнецов счел этот маневр за признак особого ума, за некую исключительность. А вот А.С. Пушкин сто с лишним лет назад заметил: «Глупость осуждения не столь заметна, как глупая хвала…» И лично я склонен думать, что герою «исповедальной» прозы только показалось, что он начал думать, а на самом деле от неумения мыслить он перешел именно к «глупости осуждения».
Итак, для героя «исповедальной» прозы прежде «символом веры» была бездумная вера, теперь для него наступило время бездумного неверия. Раньше он идеализировал «голубые параллели», теперь стал идеализировать отсутствие идеалов. И снова поторопился продемонстрировать свою исключительность, но только на другой основе. Во всяком случае, терять своих позиций он не собирался.
Летом 1966 года был опубликован роман В. Рослякова «От весны до весны». «Мне трудно говорить об этом произведении с позиции критика, – трепетно признается Ф. Кузнецов, – когда знаешь каждый прототип романа, когда видишь в произведении в первую очередь свидетельство очевидца о событиях, которые и тебя касались кровно». Что ж, это недурно, когда и писатель, и критик лично знают предмет, о котором взялись судить. В достоверности описываемых событий уже нет оснований сомневаться. Но диву даешься, когда видишь, какая горечь и тоска сквозят в словах критика при воспоминании о несвершившихся сомнительных мечтах своей юности:
«Критический огонь собрания был направлен прежде всего против бездарных преподавателей, против «демагогии, лицемерия и фальши» на своем родном факультете.
Недовольство студентов положением дел на факультете было справедливым, и их требования, казалось бы, практически выражали дух нового времени – тем труднее юным борцам было понять и осмыслить последующее развитие событий. Тот самый декан и те самые преподаватели, чья творческая несостоятельность и несоответствие духу времени не вызывали у них сомнений, не только остались на местах, но и дали «соответствующую квалификацию» своим беспокойным воспитанникам…»
Возникает вопрос: а судьи кто? Нет, Ф. Кузнецов и сейчас «не осмыслил последующее развитие событий», а «дух нового времени» понимает весьма своеобразно.
Но допустим, мечты наших героев осуществляются: герои В. Рослякова изгоняют из университета (не «остались на местах») декана и неугодных им преподавателей. «Юные борцы», восстанавливая справедливость, под свист и улюлюканье (лиха беда – начало) выдворяют их из аудитории. Потом… А не с того ли начинали и «юные борцы» одного из сопредельных государств, которые потом попросту стали называться хлестким, словно бич, словом хунвэйбины?
Нет, я вовсе не собираюсь оправдывать Лобачевых и Таковых. XX съезд партии вынес им свой исторический приговор. Но я против того, чтобы роль Фемиды представлялась первому, ее возжелавшему; я против того, чтобы, осуждая одну несправедливость, воздвигали другую. Мне тоже несколько известны студенческие нравы тех лет, и здесь энтузиазм умиления порой уступает у меня место другим, более критичным чувствам: ведь в период проведения различных «мероприятий», о которых я уже говорил, иные преспокойно и самозабвенно строили «голубые параллели».
Появление «нового характера» Ф. Кузнецов связывает с 1956 годом, то есть с XX съездом партии. Он так и пишет: «Решение съезда разбудило в них революционное юношеское нетерпение выкорчевать зло немедленно, исправить все ошибки сразу». По мнению критика, герой «исповедальной» прозы «в потенции характер глубокий, цельный, непримиримый, щедро открывшийся новому времени. Характер с идейным стержнем, заложенным всем предшествующим воспитанием, но получивший свою первую закалку в бурный, противоречивый 1956 год».
Теперь сопоставим некоторые положения. С одной стороны, утверждалось: герой «исповедальной» прозы рожден XX съездом партии; с другой – «исповедальная» проза началась с повести А. Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского».
Ф. Кузнецов, видимо, уверен, что ни у кого не хватит терпения перечитать, скажем, гладилинскую «Хронику…», где черным по белому засвидетельствовано: «Поэтому в 1953 году большинство восприняло свою неудачу как трагедию». Итак, оказывается, Подгурские-то появились в 1953 году, а не в 1956-м.
А как же тогда быть с уверениями критика о том, что герой «исповедальной» прозы есть «первая реакция молодых» на «общественное потрясение, пережитое всеми в 1956 году»? А может, Подгурские на несколько лет предвосхитили решения XX съезда? Может, они-то и дали нам «пятьдесят шестой год»? Но это что-то никак не вяжется с обликом бездумных мечтателей о «бесконечных голубых параллелях».
6
Для некоторых слова «свобода», «мятеж», «бунт», «революция» и производные от них стали фетишем. Но не существует абстрактной свободы, как не существует абстрактной революции или мятежа. Без социально-исторического наполнения эти слова приобретают слишком неопределенное звучание, чтобы при их содействии можно было бы объективно охарактеризовать какие-то серьезные явления нашей действительности.
Иным критикам казалось, что безотчетная тяга героев «исповедальных» повестей к вояжам в Сибирь или к берегам Прибалтики есть не что иное, как безудержное стремление к свободе, к самостоятельности. Очень может быть, но вот только подобная охота к перемене мест еще более неуемно проявлялась, скажем, у босяков – героев раннего творчества М. Горького.
«…B босяки бы лучше уйти… Там хоть голодно, да свободно – иди куда хочешь! Шагай по всей земле!» («Супруги Орловы»).
«Долго не стой на одном месте, – советует Макар Чудра, – чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее… А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда так бывает» («Макар Чудра»).
Но не только тяга к «путешествиям» сближает горьковских босяков и героев «исповедальной» прозы. Они поразительно единодушны и в своей активной неприязни к трудовому народу.
«Я, видишь ты, всех мужиков не люблю… сволочи! Они прикинутся сиротами – им и хлеба дают и – все! У них вон есть земство, и оно все для них делает… Хозяйство у них, земля, скот…» – злопыхает Сережка («Мальва»).
А припомните знаменитый монолог Сатина: «…Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна – я, может быть, буду работать… да! Может быть!»
Вот это издевательское «может быть» свидетельствует об атрофии гражданских и классовых чувств у героев. И пусть нас не смущают слишком категоричные суждения о Сатине как о выразителе чаяний народных. Сам М. Горький, видя, как порой бездумно романтизируют его босяков, в статье «О пьесах» писал: «Сатин – дворянин, почтово-телеграфный чиновник, отбыл четыре года тюрьмы за убийство, алкоголик и скандалист…»
Конечно, причины, породившие горьковских босяков и героев «исповедальной» прозы, различны. К тому же если первые были выброшены жизнью на «дно», то перед вторыми, напротив, открывались все дороги, распахивались все двери. Но предубеждение к труду, особенно к «черному», на какое-то время ставило их в положение деклассированных элементов, разжигало в них далеко не лучшие чувства. Эгоцентризм и необоснованные претензии на исключительность как горьковских босяков, так и «исповедальных» героев позволяют уловить по меньшей мере психологическое сходство между ними, хотя, разумеется, здесь не может быть речи о полном тождестве.
Эгоцентризм «исповедального» героя вынужден признать даже Ф. Кузнецов, хотя он делает это скорее только для видимости. Он произвольно пристегивает к слову «эгоцентризм» эпитет «полемический» и сразу же превращает первое понятие почти в его противоположность. Или вот еще: «…средоточие внимания на собственной личности». Значит, эгоизм? Не будем торопиться, ведь через запятую дальше пойдет: «…на проблемах личной нравственности». Это уже что-то наподобие толстовского «нравственного самоусовершенствования», только малость посложнее. Теперь можно признаваться и в эгоцентризме, поскольку толком не поймешь, но догадаешься: сие есть что-то исключительное и очень симпатичное.
Но нам не нужны никакие эффекты, в том числе и литературные. Явление «исповедального» героя не так уж и безобидно, как может показаться на первый взгляд. Только поняв общественную сущность и психологию этого героя, можно объяснить появление в нашей жизни различного рода молодых тунеядцев и других деклассированных элементов. И незачем нам лакировать героя, разъедаемого откровенным эгоцентризмом, и незачем это понятие затуманивать амортизирующими эпитетами. Ясно одно: «исповедальный» герой вовсе не «плоть от плоти нашего общества» и тем более не «квинтэссенция нравственных основ его». Раскрой социальное инкогнито этого героя, которое всеми правдами и неправдами старается сохранить Ф. Кузнецов, и перед нами предстанет психологический тип, лишенный социальных связей с трудовыми классами, демонстрирующий нам то приступы острого нигилизма, то не менее острые приступы бездумной веры, оставаясь при этом совершенно невосприимчивым к гражданским и патриотическим чувствам своих современников.
Лев Толстой в последние годы своей жизни пришел к такой системе определения человеческих характеров: «Люди живут своими мыслями, чужими мыслями, своими чувствами, чужими чувствами (то есть понимать чужие чувства, руководствоваться ими). Есть люди, не имеющие почти никаких, ни своих, ни чужих мыслей, ни своих чувств и живущие только чужими чувствами; это самоотверженные дурачки, святые. Есть люди, живущие только своими чувствами, – это звери. Есть люди, живущие только своими мыслями, – это мудрецы, пророки; есть – живущие только чужими мыслями, – это ученые глупцы. Из различных перестановок по силе этих свойств – вся сложная музыка характеров».
Теперь прикинем нашего «исповедального» героя на эти своеобразные «весы» человеческих характеров и посмотрим, где же остановится стрелка. Мыслить он не умел – здесь у нас нет расхождений даже с Ф. Кузнецовым. Герой обостренно чувствовал – это факт. Чьими чувствами он был занят? Разумеется, своими (эгоцентризм, пусть даже и «полемический», «средоточие внимания на собственной личности» и т. д.). По Толстому, наш герой оказывается… зверем. Спорно? Возможно. Но спорна лишь степень, а не сущность. Во всяком случае, у нас есть и литературные свидетельства.
Возьмем повесть Георгия Садовникова «Суета сует». Главный ее герой, студент Лев Зуев, от лица которого ведется повествование, – духовный побратим «исповедального» героя.
Г. Садовников не пользуется никакими приписками и лакировкой, он показывает своего героя именно таким, каков он есть на самом деле, а не каким тот хочет казаться. Писатель позволяет заглянуть нам во «внутреннее подполье» героя, понять его антиобщественную сущность.
Зуев с виду «хороший» парень. Он ироничен, как и подобает быть современному молодому человеку, критически воспринимает действительность – тоже как и подобает быть молодому современнику. С первого взгляда Зуев даже коллективист. Но Г. Садовников не ограничивается «первым взглядом», он изучает логику развития своего героя, а эта логика приводит Зуева к предательству. Казалось, он делит со своим другом Кириллом Севостьяновым и невзгоды, и радости, но так только казалось. В трудную минуту Зуев предал Кирилла. А как же иначе? Ведь в общем-то Зуев жил только своими чувствами.
Ф. Кузнецов не включил в свой разговор о молодой прозе повесть Г. Садовникова. А жаль!
7
Мысль, что «исповедальная» проза в современной нашей литературе стоит особняком, я вовсе не собираюсь приписывать себе. В последние годы многие критики доказывали это. Особенно определенно высказался критик А. Макаров: «На какое-то время как бы даже две литературы образуются: одна для, так сказать, обыкновенных людей, другая – юношеская, молодежная, да не та поучительно-назидательная, что бывшими педагогами сочиняется, а свойская, саморожденная. И это будет литература спорная и спорящая». И дальше: «…пожалуй, именно с повести Аксенова все же начинается большой разговор, выделивший «молодежную тему» как бы в особую линию в литературе, и самый журнал «Юность» приобретает физиономию, отличную от других журналов».
Теперь воспользуемся той «выгодой», что дает критику «дистанция времени», и поговорим об «особой линии в литературе», об этой «саморожденной» прозе. Ведь до сих пор мы вели разговор о судьбе поколения, давшего нам эту прозу, о ее герое и почти не касались ее художественных достоинств. Не станем отбирать для анализа произведения, которые, по общему мнению, не являются лучшими: нас будут интересовать не издержки этой прозы, а, так сказать, образцы, в которых наиболее ярко отразились ее устойчивые эстетические признаки.
А. Макаров, говоря о повести В. Аксенова «Апельсины из Марокко», замечает: «Персонажи повести, хотя и принадлежали к различным слоям, все оказывались на одно лицо, и если бы автор любезно не сообщал перед каждой главой, кто получает слово, различить, кто говорит, было бы трудно даже профессору Хиггинсу».
Претензии серьезные и вполне обоснованные. Ну, какой же тут может быть разговор о художественных достоинствах? Но аксеновские повести критиковались уже достаточно. Другое дело – его рассказы. Именно в них Ф. Кузнецов находит подтверждение писательской зрелости В. Аксенова. Вот мы и ограничим свою задачу разговором о его рассказах.
Рассказ В. Аксенова «Завтраки 43-го года» критикой почти единодушно признается лучшим. Вот кратко его суть: в сорок третьем году «переросток» отнимает школьные завтраки у своих одноклассников. Спустя много лет один из пострадавших и человек, напоминающий того «переростка», случайно встречаются в поезде. Бывшие одноклассники идут в вагон-ресторан, за обедом, естественно, начинают вспоминать годы детства. Композиционно рассказ строится очень несложно, происходит почти механическое чередование кусков из прошлого и настоящего.
Правда, Ф. Светов видит в такой композиции нечто необычное: «В прошлом веке писатели в таких случаях поступали просто: на десятках страниц пространно излагали биографии героев. Современные авторы тяготеют к более сложной композиции».
Ну, положим, в прошлом «биографии героев» тоже не всегда излагались на «десятках страниц». Но, думается, в интересах самой же «исповедальной» прозы лучше не сравнивать ее с произведениями минувшего века.
По справедливым словам А. Макарова, у В. Аксенова к моменту написания повести «была выработана манера письма, набита рука в приемах перекрестного внутреннего монолога, а вот писать оказалось не о чем». Критик фиксирует и еще одно обстоятельство: «В «Апельсинах из Марокко», впрочем, пожалуй, больше сказалось именно желание блеснуть формальной изощренностью».
Итак, В. Аксенов чуть ли не в дебюте попал в самое неприятное положение, когда «писать оказалось не о чем». С одной стороны, не о чем писать, а с другой – желание блеснуть формальной изощренностью. Разве не очевидна взаимосвязь двух этих состояний? Разумеется, «не о чем писать» пришло не от желания «блеснуть формальной изощренностью».
Конечно, писателю могут не удаваться повести или романы, а рассказы удаваться. Слишком много тому примеров, чтобы их приводить здесь. Но у писателя одновременно не может быть две эстетики: одна – для одного жанра, другая – для другого. Если писатель изощряется в повестях, потому как ему не о чем писать, то он так же будет изощряться и в рассказах. «Не о чем писать» одинаково скажется в любом жанре.
А может быть, рассказы В. Аксенова как раз то исключение, что призвано подтверждать правило? Не будем гадать на эту тему, лучше обратимся к самим рассказам.