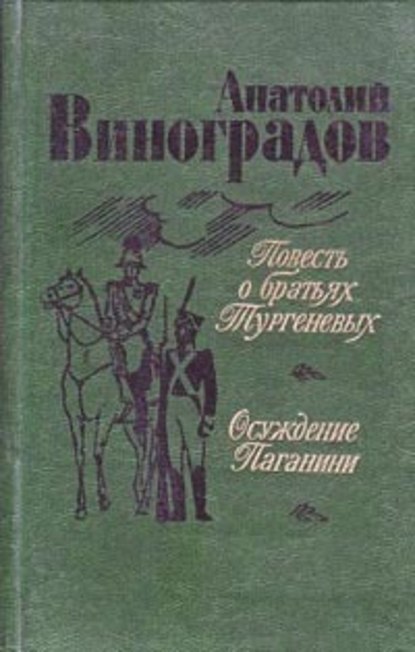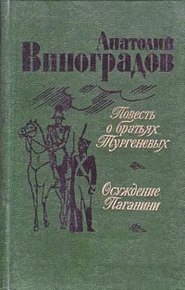По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повесть о братьях Тургеневых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шлёцер подошел к Тургеневу. Веселый, насмешливый и умный старик, пожимая руки своему студенту, говорил:
– Ну, что же, поздравляю. Ваш Александр учредил министерства, я читал его указы об уничтожении пыток и ограничении телесных наказаний. Я считаю, что указ о вольных хлебопашцах, разрешающий, наконец, помещикам освобождать крестьян целыми деревнями, есть хорошее начинание. Пожалуй, при таких условиях в России все пойдет мирным путем.
– Господин тайный советник, – сказал Тургенев, – я надеюсь, что вы не проводите аналогии между Людовиком Шестнадцатым и Александром Первым.
– Дорогой мой, у вас нет третьего сословия, нет сильной буржуазии, у вас почти неизжитый феодальный быт. Только поэтому я не провожу аналогии, – ответил Шлёцер, улыбаясь умными светлыми глазами.
Тургенев смотрел в эти прозрачные, горящие искрами ума глаза и чувствовал, что весь образ мыслей Шлёцера ему непонятен, что сколько бы он, Тургенев, ни просидел в Геттингене, он никогда не получит этой изощренной гибкости мозга и этого блеска ума, обогащенного большими знаниями и постоянным упражнением ненасытной, огромной мысли.
– Не будем загадывать вперед, – сказал Шлёцер, – нынешние страны Германского союза могут только завидовать России. У вас уже открыты университеты в Харькове и Казани, у вас открыты гимназии, уездные училища. Александр хорошо начинает. Надо иметь в виду, что французский сенат и государственный совет тоже не дремлют. Во Франции строятся политехнические школы, создается новый гражданский кодекс, выравнивающий людей всех сословий. Люди без роду и без племени, как говорят русские (эти слова Шлёцер произнес по-русски), могут достичь высоких степеней в государстве. Конечно, немножечко смешно, что они рядятся в греческие и римские одежды. Им все-таки хочется разыграть древних греков. Через столетия легенд и преданий своей героической аристократии безродные французы протянули руку братьям Гракхам, Бруту, Гармодию и Аристогитону. Это ведь тоже неплохо, хотя пахнет театром. Во всяком случае, обращение к античным героям для французских буржуа, поднявших красное знамя, было менее обидно, чем обращение к прошлому своей аристократии, которую они стремились уничтожить. В самом деле, французская аристократия ведь совершенно себя изжила, она уже перестала быть двигательной силой государства, она превратилась только в потребителя крестьянского труда. А тем временем французское купечество зрело, укрепляясь. Оно уже владело финансами и чувствовало себя хозяином страны. Перед французским богатым горожанином дворянин имел только одно преимущество – дворянскую грамоту. Теперь это преимущество ничего не стоит. Всякий француз может применять свои способности и свободно соревновать с другим. Всякий солдат может стать генералом, не предъявляя дворянского патента. В России этих условий нет. Она вся распадается на дворянство и крестьянство. Царю нужно опираться на одно, чтобы управлять другим. Возможности у него неограниченны. Все дело в том, пожелает ли он ими воспользоваться.
Тургенев собирался заговорить, но подошел профессор Блуменбах и что-то шепнул Шлёцеру, отведя его под руку. Раздавался голос баварского принца:
– Драмы Шиллера – прекрасная вещь, но хорошо, что закрыли геттингенский театр, так как весь университет проводил там свое время. Театр был полон, аудитории пустовали. Что касается меня, то я Ганзена люблю больше, чем Шиллера. Мозельский виноград на меня действует лучше, чем «Орлеанская дева».
– Я знаю деву, которая на тебя действует лучше мозельского винограда, – произнес захмелевший студент, обращаясь к принцу-студенту.
Дружный хохот был ему ответом. Тургенев заметил, что из двери, пробираясь по стенке, подходит к нему Андрей Кайсаров с лицом, искаженным гримасой.
– Что с тобой делается? – спросил Тургенев.
– Пойдем домой.
– В чем дело?
– Дорогой скажу.
Быстро выбежали оба на улицу.
– Ты только дай мне слово не шлепаться в обморок и не вести себя, как баба, – сказал Кайсаров.
– Да не томи ты, скажи, в чем дело. Что-нибудь с матушкой, с батюшкой?
– Нет, с Андрюшей.
– Умер?
– Болен.
– Тяжело болен? Что с ним?
– Приехавши в Москву... захворал, две недели как... похоронили.
Несмотря на все свое мужество, Александр Тургенев не мог удержаться на ногах. Он пошатнулся и сел на деревянный тротуар, спуская ноги на мостовую.
– Нет проходу от пьяных студентов, – сказал какой-то почтенный немец, обходя Тургенева.
На утро пришли из Вены обратно письма Александра Тургенева к брату Андрею с извещением, что «императорский секретарь Андрей Иванович Тургенев выбыл в Москву».
– Кто мог бы думать, что он выбыл из числа живых, – говорил Тургенев в минуты просветления после часов страшного отчаяния. Он буквально не находил себе места. Он брался за перо, чтобы писать в Москву, и не мог. Он судорожно брал первую попавшуюся книгу, чтобы не сойти с ума от горя и отчаяния, и через несколько минут, не могши прочесть ни строчки, видел, что держит опрокинутую книгу. Тогда начинал ходить по комнате, вспоминал, как в одном письме Андрей со смехом отзывался об искусственном и глупом титуле, придуманном для него на срок заграничной поездки. После многих мучений Александр Тургенев заснул. Ему снился самый неподходящий вздор. Он целовал хорошенькую кельнершу господина Ганзена и шептал ей на ухо какие-то студенческие нежности. Проснулся, обливаясь холодным потом, вторично проснулся, потому что первый раз проснулся во сне. Проснулся во сне и увидел себя у постели больного брата. Казалось, в жизни не любил он так его, как в эту минуту. Он ловит руку Андрея и говорит слабеющим голосом. Не помнит, что говорит, но слышит ясно: «Тебе жаль меня будет, братец!» Вторично проснулся от этих самых слов. Комната наполнена желтым светом. На столе мигает свеча. Свет бросает огромную тень на противоположную стену. Это не тень, а какая-то гигантская фигура. Мертвая и давящая тишина. Лучше бы не просыпаться. Предметы кажутся далекими, чужими. На сердце щемящая тоска и ужас оттого, что действительно проснулся и что все это верно, что Андрей где-то далеко, за две тысячи верст, уже лежит в отсыревшем гробу, глубоко под землею. Комната совершенно чужая. Весь мир совершенно чужой. Кругом непроглядная ночь, и только в этой комнате – желтый, мучающий глаза свет.
Тень на стене заколебалась. Это Кайсаров, сидя у письменного стола, перевернул страницу. Он читает всю ночь. Какое всю ночь? Оказывается, он вторые сутки у постели бредящего Александра Тургенева. Подходит. Снимает мокрое полотенце с головы Александра. Тут только Тургенев замечает, что волосы слиплись на лбу.
– Нельзя так предаваться горю, – говорит Кайсаров. – А все потому, что это первая смерть в дружной семье. Вы – баловни судьбы, Тургеневы.
– Боже мой, неужто будут еще и следующие? – спрашивает Александр.
– Будут, – говорит Кайсаров. – А для того, чтобы они были нескоро, приведи себя в порядок и будь как старший утешением старикам.
Глава десятая
Исполнялись всевозможные сроки. Старились старики, крепли юноши, рождались младенцы. Одно зрело, другое отмирало. Зима сменила осень, весна сменила зиму. И лето пришло на смену весне. Трехцветные знамена развевались над Парижем. Двенадцатый год над Европой ветры носили великую песнь марсельских федератов. «Марсельеза» снилась королям вместе с громом французских пушек, а ее автор, сорвав с себя погоны, бросил их под ноги генералу Карно, заявляя, что он не может служить во французской армии после того, как голова короля слетела с плеч. Природа делала и не такие шутки. История в эти годы не только смеялась, но хохотала. От ее громкого хохота давали трещины дворцы, казавшиеся вечными. От ее улыбки над зелеными равнинами Ломбардии появилось яркое солнце, уходили австрийцы, иезуиты и жандармы, возникали легкие отряды итальянской молодежи, мечтавшие о свободе и счастии людей. Первый консул все еще казался богом войны и революции. Но и это было только улыбкой истории. В 1803 году от республики осталась тень, и эта тень протягивала руку императорской короне. Во Франции третье сословие считало, что довольно играть с огнем. Для охраны кошельков нужна полиция. Послушный первый консул поручил хитрецу и ловкачу Фуше организовать розыски не только мелких воров, но и свободных французских мыслей.
– Республика хороша в той мере, в какой она выполняет мою волю, – говорил Бонапарт на докладах Фуше.
– Бонапарт хорош в той мере, в какой он сдерживает натиск санкюлотов и оберегает нашу собственность, – говорили французские банкиры и фабриканты. – Санкюлоты хороши, когда они режут аристократов, но когда они требуют дележа имущества, то им надо крикнуть: «Руки прочь!» Частная собственность священна.
С презрением говоря о рабской России, французские граждане, сидевшие в законодательных учреждениях, и не подумали о свободе колониальных рабов. Во французских колониях вспыхнули восстания цветных племен. Французских буржуа-колонистов резали с таким же восторгом, с каким восторгом парижские буржуа тащили на эшафот французских аристократов. Всему этому нужно было положить конец. Вот почему каждый буржуа радовался, видя каменную неподвижность и неумолимую энергию на лице Бонапарта. Огромная масса французов намагничивала эту бронзу, и, чувствуя, что он попал на гребень волны, Бонапарт выпрямлял свою маленькую фигуру и, поднимая руку навстречу молнии, считал себя в самом деле великим. В ранце каждого солдата был маршальский жезл. Опьяненная молодежь бредила войной и славой. Это были молодые горожане, отцы которых ставили в армию чулки и нитяные колпаки, военные сукна и металл, кожу и барабаны. По всей Европе катились волна несчастий и пьяная волна военного бреда.
* * *
Семнадцатого января 1804 года Александр Тургенев писал в дневнике о несбывшихся мечтах военной карьеры. В самом деле, какая тут военная карьера, когда умер старший брат и Александр теперь чуть ли не глава семьи! Отец пишет о том, чтобы он ехал для изучения славянских земель. Геттингенский университет кончен.
Дневник Тургенева.
«Итак, я не солдат, я не натуральный историк, я не курьер при иностранной коллегии, я не секретарь посольства. Что ж я? Адъюнкт русской древней истории при Санкт-Петербургской Академии наук. Воображал ли я, что через полтора года по моем приезде в Геттинген Шлёцер сделает мне подобное предложение? Ах, милый брат Андрей, день ото дня чувствую более и более нужду в тебе. С кем посоветуюсь я? Ах, как все переменилось – все переменилось».
Началась длинная переписка с родителями. В конце концов Александр Тургенев не без досады писал отцу: «Я не знаю, с чего заключили вы, что мне очень хочется в Академию, я никогда не был мечтателем и никогда не хотел занимать профессорской кафедры». А Кайсаров в своем письме Ивану Петровичу писал по поводу предложения Шлёцера:
«Немецкий мечтатель рекомендует русского дворянина в профессоры». Очевидно, за время долгого отсутствия из России Александр Иванович сам недостаточно ясно представлял себе, куда готовит его отец. В глубине души он чувствовал симпатии к научной деятельности, но разбрасывался и ни на чем не мог остановиться надолго. Смерть Андрея коренным образом изменила планы Ивана Петровича Тургенева. Московские масоны собирались почти открыто. Сам Александр, казалось, вот-вот сделается мастером какой-нибудь ложи. Андрей Тургенев умер, не дождавшись посвящения. Все надежды Ивана Петровича и все стремления превратить старшего в семье в исполнителя поручений масонского союза теперь обратились на Александра. "Наука не есть вид общественного служения, – думал Иван Петрович. – Она завлекла Александра, но она замкнет его в узком круге интересов, а ныне предстоит обширная задача создать Союз соединенных славян. Пусть так и будет. Андрей Кайсаров, на мое мнение, производит прекрасное впечатление. Пусть он будет с Александром вместе".
Александр Тургенев повиновался родительской воле. Оставив разочарованного Шлёцера, простился он с Геттингеном. Приехавший купец Рахманов застал его в самый день отъезда из Геттингена. Рахманов рассказал, как разгоряченный на вечере Андрей пришел к матери Катерине Семеновне и та уговорила сына поесть мороженого.
«Оттого приключилась с Андреем Ивановичем горячка и прикончила его жисть, – добавил Рахманов. – А об вас, батюшка Александр Иванович, все дюже убивалися. Княгинюшка Щербатова и ваша тетушка Нефедьева целый вечер проплакали у матушки вашей, за достоверное передав, что вы убиты французами, которые из пушек стреляли в ваш ниверситет».
Двадцать восьмого марта, выезжая из Касселя, Тургенев отметил: «Вчера минуло мне двадцать лет. Excidat aevo – пусть выпадет этот несчастный год из жизни моей».
По дороге из Дрездена на Вену Тургенев просил соседа, одного из тринадцати пассажиров, сидевших в дилижансе, дать ему газетный листок, который тот не отрываясь читал и перечитывал, словно уставившись в одну точку. Это была французская консульская газета, которая именовалась «Газетой Защитников Отечества». Тургенев прочел и понял причину напряженного внимания француза. Двадцать восьмого флореаля (восемнадцатого мая 1804 года) сенат, под председательством Камбасереса, в Париже вынес решение, по которому учреждалась империя, а первый консул становился императором французов, хотя Франция по-прежнему именовалась республикой. Тургенев молча передал газету Кайсарову. Оба, не говоря ни слова и несколько смущенно оглядываясь по сторонам, вернули газету французу.
«Итак, – думал каждый, – якобинская республика кончилась, выскочка, сын корсиканского нотариуса, мелкий буржуа, французский офицер Бонапарт „вошел в семью“ европейских монархов под именем императора Наполеона I».
– Что такое флореаль? – спросил Кайсаров.
– А как же? Французский Конвент в тысяча семьсот девяносто третьем году провел предложение Фабра д'Эглантина, по которому двадцать второе сентября тысяча семьсот девяносто второго года, то есть день объявления республики, был назван первым днем нового человечества. Каждый месяц в календаре д'Эглантина распадался на три декады по десять дней, и каждый месяц назывался по натуральным признакам в соответствии с погодою, промыслами и хозяйством.
– Да, помню, помню, – сказал Кайсаров.
Тургенев продолжал:
– Ну, что же, поздравляю. Ваш Александр учредил министерства, я читал его указы об уничтожении пыток и ограничении телесных наказаний. Я считаю, что указ о вольных хлебопашцах, разрешающий, наконец, помещикам освобождать крестьян целыми деревнями, есть хорошее начинание. Пожалуй, при таких условиях в России все пойдет мирным путем.
– Господин тайный советник, – сказал Тургенев, – я надеюсь, что вы не проводите аналогии между Людовиком Шестнадцатым и Александром Первым.
– Дорогой мой, у вас нет третьего сословия, нет сильной буржуазии, у вас почти неизжитый феодальный быт. Только поэтому я не провожу аналогии, – ответил Шлёцер, улыбаясь умными светлыми глазами.
Тургенев смотрел в эти прозрачные, горящие искрами ума глаза и чувствовал, что весь образ мыслей Шлёцера ему непонятен, что сколько бы он, Тургенев, ни просидел в Геттингене, он никогда не получит этой изощренной гибкости мозга и этого блеска ума, обогащенного большими знаниями и постоянным упражнением ненасытной, огромной мысли.
– Не будем загадывать вперед, – сказал Шлёцер, – нынешние страны Германского союза могут только завидовать России. У вас уже открыты университеты в Харькове и Казани, у вас открыты гимназии, уездные училища. Александр хорошо начинает. Надо иметь в виду, что французский сенат и государственный совет тоже не дремлют. Во Франции строятся политехнические школы, создается новый гражданский кодекс, выравнивающий людей всех сословий. Люди без роду и без племени, как говорят русские (эти слова Шлёцер произнес по-русски), могут достичь высоких степеней в государстве. Конечно, немножечко смешно, что они рядятся в греческие и римские одежды. Им все-таки хочется разыграть древних греков. Через столетия легенд и преданий своей героической аристократии безродные французы протянули руку братьям Гракхам, Бруту, Гармодию и Аристогитону. Это ведь тоже неплохо, хотя пахнет театром. Во всяком случае, обращение к античным героям для французских буржуа, поднявших красное знамя, было менее обидно, чем обращение к прошлому своей аристократии, которую они стремились уничтожить. В самом деле, французская аристократия ведь совершенно себя изжила, она уже перестала быть двигательной силой государства, она превратилась только в потребителя крестьянского труда. А тем временем французское купечество зрело, укрепляясь. Оно уже владело финансами и чувствовало себя хозяином страны. Перед французским богатым горожанином дворянин имел только одно преимущество – дворянскую грамоту. Теперь это преимущество ничего не стоит. Всякий француз может применять свои способности и свободно соревновать с другим. Всякий солдат может стать генералом, не предъявляя дворянского патента. В России этих условий нет. Она вся распадается на дворянство и крестьянство. Царю нужно опираться на одно, чтобы управлять другим. Возможности у него неограниченны. Все дело в том, пожелает ли он ими воспользоваться.
Тургенев собирался заговорить, но подошел профессор Блуменбах и что-то шепнул Шлёцеру, отведя его под руку. Раздавался голос баварского принца:
– Драмы Шиллера – прекрасная вещь, но хорошо, что закрыли геттингенский театр, так как весь университет проводил там свое время. Театр был полон, аудитории пустовали. Что касается меня, то я Ганзена люблю больше, чем Шиллера. Мозельский виноград на меня действует лучше, чем «Орлеанская дева».
– Я знаю деву, которая на тебя действует лучше мозельского винограда, – произнес захмелевший студент, обращаясь к принцу-студенту.
Дружный хохот был ему ответом. Тургенев заметил, что из двери, пробираясь по стенке, подходит к нему Андрей Кайсаров с лицом, искаженным гримасой.
– Что с тобой делается? – спросил Тургенев.
– Пойдем домой.
– В чем дело?
– Дорогой скажу.
Быстро выбежали оба на улицу.
– Ты только дай мне слово не шлепаться в обморок и не вести себя, как баба, – сказал Кайсаров.
– Да не томи ты, скажи, в чем дело. Что-нибудь с матушкой, с батюшкой?
– Нет, с Андрюшей.
– Умер?
– Болен.
– Тяжело болен? Что с ним?
– Приехавши в Москву... захворал, две недели как... похоронили.
Несмотря на все свое мужество, Александр Тургенев не мог удержаться на ногах. Он пошатнулся и сел на деревянный тротуар, спуская ноги на мостовую.
– Нет проходу от пьяных студентов, – сказал какой-то почтенный немец, обходя Тургенева.
На утро пришли из Вены обратно письма Александра Тургенева к брату Андрею с извещением, что «императорский секретарь Андрей Иванович Тургенев выбыл в Москву».
– Кто мог бы думать, что он выбыл из числа живых, – говорил Тургенев в минуты просветления после часов страшного отчаяния. Он буквально не находил себе места. Он брался за перо, чтобы писать в Москву, и не мог. Он судорожно брал первую попавшуюся книгу, чтобы не сойти с ума от горя и отчаяния, и через несколько минут, не могши прочесть ни строчки, видел, что держит опрокинутую книгу. Тогда начинал ходить по комнате, вспоминал, как в одном письме Андрей со смехом отзывался об искусственном и глупом титуле, придуманном для него на срок заграничной поездки. После многих мучений Александр Тургенев заснул. Ему снился самый неподходящий вздор. Он целовал хорошенькую кельнершу господина Ганзена и шептал ей на ухо какие-то студенческие нежности. Проснулся, обливаясь холодным потом, вторично проснулся, потому что первый раз проснулся во сне. Проснулся во сне и увидел себя у постели больного брата. Казалось, в жизни не любил он так его, как в эту минуту. Он ловит руку Андрея и говорит слабеющим голосом. Не помнит, что говорит, но слышит ясно: «Тебе жаль меня будет, братец!» Вторично проснулся от этих самых слов. Комната наполнена желтым светом. На столе мигает свеча. Свет бросает огромную тень на противоположную стену. Это не тень, а какая-то гигантская фигура. Мертвая и давящая тишина. Лучше бы не просыпаться. Предметы кажутся далекими, чужими. На сердце щемящая тоска и ужас оттого, что действительно проснулся и что все это верно, что Андрей где-то далеко, за две тысячи верст, уже лежит в отсыревшем гробу, глубоко под землею. Комната совершенно чужая. Весь мир совершенно чужой. Кругом непроглядная ночь, и только в этой комнате – желтый, мучающий глаза свет.
Тень на стене заколебалась. Это Кайсаров, сидя у письменного стола, перевернул страницу. Он читает всю ночь. Какое всю ночь? Оказывается, он вторые сутки у постели бредящего Александра Тургенева. Подходит. Снимает мокрое полотенце с головы Александра. Тут только Тургенев замечает, что волосы слиплись на лбу.
– Нельзя так предаваться горю, – говорит Кайсаров. – А все потому, что это первая смерть в дружной семье. Вы – баловни судьбы, Тургеневы.
– Боже мой, неужто будут еще и следующие? – спрашивает Александр.
– Будут, – говорит Кайсаров. – А для того, чтобы они были нескоро, приведи себя в порядок и будь как старший утешением старикам.
Глава десятая
Исполнялись всевозможные сроки. Старились старики, крепли юноши, рождались младенцы. Одно зрело, другое отмирало. Зима сменила осень, весна сменила зиму. И лето пришло на смену весне. Трехцветные знамена развевались над Парижем. Двенадцатый год над Европой ветры носили великую песнь марсельских федератов. «Марсельеза» снилась королям вместе с громом французских пушек, а ее автор, сорвав с себя погоны, бросил их под ноги генералу Карно, заявляя, что он не может служить во французской армии после того, как голова короля слетела с плеч. Природа делала и не такие шутки. История в эти годы не только смеялась, но хохотала. От ее громкого хохота давали трещины дворцы, казавшиеся вечными. От ее улыбки над зелеными равнинами Ломбардии появилось яркое солнце, уходили австрийцы, иезуиты и жандармы, возникали легкие отряды итальянской молодежи, мечтавшие о свободе и счастии людей. Первый консул все еще казался богом войны и революции. Но и это было только улыбкой истории. В 1803 году от республики осталась тень, и эта тень протягивала руку императорской короне. Во Франции третье сословие считало, что довольно играть с огнем. Для охраны кошельков нужна полиция. Послушный первый консул поручил хитрецу и ловкачу Фуше организовать розыски не только мелких воров, но и свободных французских мыслей.
– Республика хороша в той мере, в какой она выполняет мою волю, – говорил Бонапарт на докладах Фуше.
– Бонапарт хорош в той мере, в какой он сдерживает натиск санкюлотов и оберегает нашу собственность, – говорили французские банкиры и фабриканты. – Санкюлоты хороши, когда они режут аристократов, но когда они требуют дележа имущества, то им надо крикнуть: «Руки прочь!» Частная собственность священна.
С презрением говоря о рабской России, французские граждане, сидевшие в законодательных учреждениях, и не подумали о свободе колониальных рабов. Во французских колониях вспыхнули восстания цветных племен. Французских буржуа-колонистов резали с таким же восторгом, с каким восторгом парижские буржуа тащили на эшафот французских аристократов. Всему этому нужно было положить конец. Вот почему каждый буржуа радовался, видя каменную неподвижность и неумолимую энергию на лице Бонапарта. Огромная масса французов намагничивала эту бронзу, и, чувствуя, что он попал на гребень волны, Бонапарт выпрямлял свою маленькую фигуру и, поднимая руку навстречу молнии, считал себя в самом деле великим. В ранце каждого солдата был маршальский жезл. Опьяненная молодежь бредила войной и славой. Это были молодые горожане, отцы которых ставили в армию чулки и нитяные колпаки, военные сукна и металл, кожу и барабаны. По всей Европе катились волна несчастий и пьяная волна военного бреда.
* * *
Семнадцатого января 1804 года Александр Тургенев писал в дневнике о несбывшихся мечтах военной карьеры. В самом деле, какая тут военная карьера, когда умер старший брат и Александр теперь чуть ли не глава семьи! Отец пишет о том, чтобы он ехал для изучения славянских земель. Геттингенский университет кончен.
Дневник Тургенева.
«Итак, я не солдат, я не натуральный историк, я не курьер при иностранной коллегии, я не секретарь посольства. Что ж я? Адъюнкт русской древней истории при Санкт-Петербургской Академии наук. Воображал ли я, что через полтора года по моем приезде в Геттинген Шлёцер сделает мне подобное предложение? Ах, милый брат Андрей, день ото дня чувствую более и более нужду в тебе. С кем посоветуюсь я? Ах, как все переменилось – все переменилось».
Началась длинная переписка с родителями. В конце концов Александр Тургенев не без досады писал отцу: «Я не знаю, с чего заключили вы, что мне очень хочется в Академию, я никогда не был мечтателем и никогда не хотел занимать профессорской кафедры». А Кайсаров в своем письме Ивану Петровичу писал по поводу предложения Шлёцера:
«Немецкий мечтатель рекомендует русского дворянина в профессоры». Очевидно, за время долгого отсутствия из России Александр Иванович сам недостаточно ясно представлял себе, куда готовит его отец. В глубине души он чувствовал симпатии к научной деятельности, но разбрасывался и ни на чем не мог остановиться надолго. Смерть Андрея коренным образом изменила планы Ивана Петровича Тургенева. Московские масоны собирались почти открыто. Сам Александр, казалось, вот-вот сделается мастером какой-нибудь ложи. Андрей Тургенев умер, не дождавшись посвящения. Все надежды Ивана Петровича и все стремления превратить старшего в семье в исполнителя поручений масонского союза теперь обратились на Александра. "Наука не есть вид общественного служения, – думал Иван Петрович. – Она завлекла Александра, но она замкнет его в узком круге интересов, а ныне предстоит обширная задача создать Союз соединенных славян. Пусть так и будет. Андрей Кайсаров, на мое мнение, производит прекрасное впечатление. Пусть он будет с Александром вместе".
Александр Тургенев повиновался родительской воле. Оставив разочарованного Шлёцера, простился он с Геттингеном. Приехавший купец Рахманов застал его в самый день отъезда из Геттингена. Рахманов рассказал, как разгоряченный на вечере Андрей пришел к матери Катерине Семеновне и та уговорила сына поесть мороженого.
«Оттого приключилась с Андреем Ивановичем горячка и прикончила его жисть, – добавил Рахманов. – А об вас, батюшка Александр Иванович, все дюже убивалися. Княгинюшка Щербатова и ваша тетушка Нефедьева целый вечер проплакали у матушки вашей, за достоверное передав, что вы убиты французами, которые из пушек стреляли в ваш ниверситет».
Двадцать восьмого марта, выезжая из Касселя, Тургенев отметил: «Вчера минуло мне двадцать лет. Excidat aevo – пусть выпадет этот несчастный год из жизни моей».
По дороге из Дрездена на Вену Тургенев просил соседа, одного из тринадцати пассажиров, сидевших в дилижансе, дать ему газетный листок, который тот не отрываясь читал и перечитывал, словно уставившись в одну точку. Это была французская консульская газета, которая именовалась «Газетой Защитников Отечества». Тургенев прочел и понял причину напряженного внимания француза. Двадцать восьмого флореаля (восемнадцатого мая 1804 года) сенат, под председательством Камбасереса, в Париже вынес решение, по которому учреждалась империя, а первый консул становился императором французов, хотя Франция по-прежнему именовалась республикой. Тургенев молча передал газету Кайсарову. Оба, не говоря ни слова и несколько смущенно оглядываясь по сторонам, вернули газету французу.
«Итак, – думал каждый, – якобинская республика кончилась, выскочка, сын корсиканского нотариуса, мелкий буржуа, французский офицер Бонапарт „вошел в семью“ европейских монархов под именем императора Наполеона I».
– Что такое флореаль? – спросил Кайсаров.
– А как же? Французский Конвент в тысяча семьсот девяносто третьем году провел предложение Фабра д'Эглантина, по которому двадцать второе сентября тысяча семьсот девяносто второго года, то есть день объявления республики, был назван первым днем нового человечества. Каждый месяц в календаре д'Эглантина распадался на три декады по десять дней, и каждый месяц назывался по натуральным признакам в соответствии с погодою, промыслами и хозяйством.
– Да, помню, помню, – сказал Кайсаров.
Тургенев продолжал: