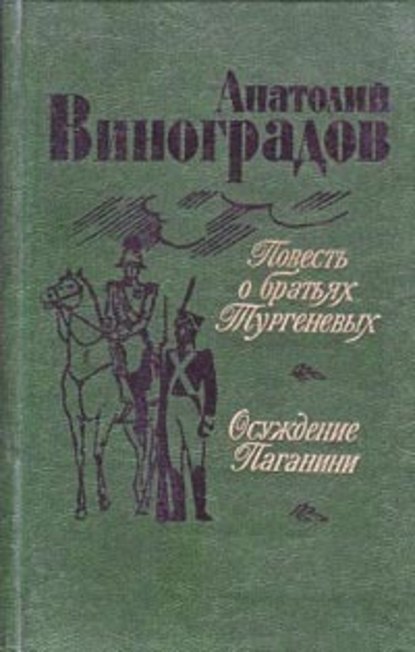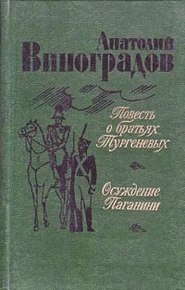По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Осуждение Паганини
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Паганини Пожал плечами.
– Да, – сказал Россини, – вид у тебя вполне искренний, но знаешь, что мне досадно: ты загородил дорогу Шпору, который лишь немного старше тебя годами. При тебе ему нельзя было выступить в Венеции: без тебя его покрыли бы лаврами и рукоплесканиями, при тебе он не мог даже появиться на эстраде. Маэстро, вы не знаете, до какой степени движение вашего таланта по нашей грешной земле сжигает все на своем пути.
– Но какие слова! – сказал Паганини. – Странно, все, что я слышал о Шпоре, говорило о нем как о человеке честном. У него была, правда, германская напыщенность, но это выступление в газете – поступок бесчестный и бессильный. Хорошо, что я не читал венецианских газет, я был погружен в чтение героических историков и мифографов. Я читал латинских поэтов. Ты знаешь, я вдруг сейчас вспомнил, что забыл тебе сказать о появлении одного замечательного поэта. Это – английский лорд, путешествовавший по Востоку...
– Байрон, – прервал его Россини. – Слышал. Он сейчас живет в Милане.
Внезапно лицо Паганини сделалось суровым.
– Меня тревожит случай в Болонье, – сказал он. Ведь это действительно мой портрет.
Россини вздрогнул, пристально посмотрел в глаза своему другу. Он вспомнил все, что сам слышал о тайной жизни Паганини: Паганини называли человеком двойного бытия, о нем говорили как об опасном карбонарии. как о враге церкви. Россини всегда доверял только своим впечатлениям, но ведь жизнь полна сюрпризов.
Вскоре Паганини натолкнулся на новое проявление открытого недоброжелательства. Когда он снова приехал в Милан и был избран председателем «Союза Орфеев», французский скрипач Лафон выразил желание вступить в союз. Они познакомились. Французский скрипач был без ума от Крейцера и в первой же беседе выразил свое восхищение этим музыкантом.
– Какого Крейцера вы любите? – спросил Паганини. – Ведь их два.
– Совершенно верно, оба родные братья, Родольф и Огюст, оба родились в Версале, оба сейчас в Париже. Моим учителем является скрипач Огюст Крейцер, а моим почитаемым композитором – Родольф Крейцер, тот самый, которому Бетховен посвятил свою скрипичную сонату.
Паганини кивнул головой.
...Вскоре в миланских газетах появилась анонимная заметка, говорящая о разительном превосходстве французского скрипача над прославленным председателем «Союза Орфеев». «...Несомненно, первые звуки скрипки господина Лафона прогонят, как ночного нетопыря, этого лемура со скрипкой, заразившего все наши города очарованием безумия», – писала газета.
– Однако! Что вы на это скажете? – спросил Лафон при встрече. – Я готов принять этот вызов. Но скажите, кто из ваших друзей написал эту заметку?
Паганини нахмурился, лицо его стало грустным. Он остановил Лафона:
– Вы ставите дело так, что я начну подозревать ваших друзей... Итак, что же мы будем играть, если мы выступим вместе на концерте?
– Давайте играть сонату, которую сам Крейцер играл вместе со знаменитым Родэ.
Не откладывая приготовлений, назначили выступление через неделю.
Паганини вел себя легкомысленно. Он выезжал за город слушать в деревне «эхо Симонетты», наблюдал там за черноволосым, слегка прихрамывающим человеком с необыкновенно красивым лицом и черными огромными глазами, который с большим постоянством предавался странному развлечению. Лакей приносил на серебряном подносе пистолет, и его господин стрелял в воздух. Тысячекратное эхо повторяло эти выстрелы.
– Английский лорд забавляется, – сказал однажды какой-то незнакомец и указал в ту сторону, куда смотрел Паганини. – Это лорд Байрон.
Иначе проводил время господин Лафон. Куда исчезла французская легкость характера, обычно отличавшая этого исключительного скрипача и человека большой удачи! Он наводил справки у прислуги, он посылал в гостиницу кельнера-австрийца, который выведывал, сколько часов в день играет синьор Паганини. Нисколько, Паганини вовсе не играет. Можно с уверенностью сказать, что местные миланские врачи нашли у синьора Паганини очень странную форму нервической лихорадки. Каждое выступление причиняет ему физическую боль, дома он никогда, никогда не берет в руки скрипки. Лафон начинал чувствовать робость.
Но вот, наконец, наступил день концерта. Съехались самые крупные хроникеры европейских газет, антрепренеры венских театров, музыкальные комиссионеры, кормящиеся чужим талантом, и кучка любопытных паразитов, которым одинаково дороги и промахи и удачи гения, лишь бы кормиться крохами с его стола, лишь бы состряпать шестьдесят строчек хроники, лишь бы, нагло развязав галстук, с дерзким видом поговорить о том, что гений оказался не на высоте своего положения, и хоть в воображении, хоть на минуту почувствовать себя высоко стоящими над Паганини.
С тяжелым чувством Паганини вошел в комнату для актеров.
Веселый, чудаковатый скрипач, с длинными волосами, одетый в серый полукамзол, серые полосатые чулки и серые туфли, в красных панталонах и, как это ни странно, с орденом Почетного легиона в петлице, со словами приветствия пошел навстречу своему противнику.
Первым играл Паганини. Он забыл о состязании, играя, как всегда, с колоссальным напряжением сил и с той внешней легкостью, которая поражала и очаровывала слушателей. Но он играл элегическую, простую скрипичную пьесу Корелли. Выбор такой простой вещи для состязания оставил слушателей в недоумении, граничащем с равнодушием. Вышел Лафон. Паганини слушает его с восторгом. Глубина и изящество его исполнения все больше и больше завоевывают симпатии слушателей. Зал оглашается рукоплесканиями, публика, враждебно настроенная к Паганини, неистовствует. Весь зал насторожился, целые ряды публики встали. Следующая пьеса Паганини вызывает живую реакцию его итальянских почитателей; к ним присоединяются приехавшие венцы. Острая и едкая музыка Паганини сопровождается бурей аплодисментов одной партии и взрывом негодования другой. Зал превращается в поле сражения. Слышатся голоса: «Паганини сдается!»
Во втором отделении темпераментный француз начинает подавлять итальянского скрипача неожиданным проявлением виртуозности. На третьей пьесе француз почти торжествует, но приходит очередь четвертой, пятой, и вот, наконец, шестая – соната Крейцера. Что сделалось с Лафоном? Он играет вяло, публика почти не чувствует его игры, дружный смех раздается в райке. Но вот выходит Паганини и играет ту же сонату.
Наступает такая жуткая тишина, что удары сердца слышит каждый. Сердце мешает слушать скрипача, руки прижимаются к груди, дыхание останавливается, и вдруг после ферматы весь зал понимает этот ловкий маневр гимнаста, боксера, гладиатора, уступившего противнику все позиции перед наступлением решающего момента, и чем сильнее было первоначально кажущееся поражение Паганини, тем ярче выступило его полное превосходство. Паганини стоял молча, широко раскинув руки, держа скрипку и смычок в левой руке, – с таким видом, как будто отдавал себя на суд всех слушавших его.
Старая римская манера опускать большой палец и кричать «Долой!» внезапно нашла свое новое применение в этом состязании. К чистому наслаждению большим и высоким искусством вдруг примешался итальянский патриотизм. Забывая учтивость, итальянские граждане кричали: «Да здравствует Италия! Да здравствует Паганини! Да здравствует первая скрипка мира! Evviva Maestro insuperato!»[4 - Да здравствует непревзойденный маэстро! (итал.)]
Присутствовавший на концерте австрийский офицер хмурится. Он машет рукой капельдинеру, он вызывает наряд австрийской полиции и указывает на ложу, где сидят монсиньор Лодовико Брем, синьор Федериго Конфалоньери, с ним рядом его маленький секретарь Сильвио Пеллико и поэт Монти. Это оттуда раздался крик: «Да здравствует Италия!»
Сцена быстро меняется. Оба – и француз и итальянец – большими шагами направляются друг к другу с протянутыми руками. Француз протягивает руку Паганини. Противники обнимаются и под руку выходят на авансцену. Теперь трудно понять, к кому относятся овации. После десятого выхода на авансцену закрывается занавес.
Импрессарио бегает около Паганини, направляющегося с эстрады в глубь артистической комнаты, и что-то старается ему шепнуть. Паганини даже не замечает его, потом презрительно бросает: «Нет» – и исчезает.
Француз получает удвоенный гонорар, обеспечивающий ему годичное путешествие по Европе.
* * *
Поиски Евридики были безуспешны. Ее не было ни в Турине, ни в Милане, ни в Болонье. Прошел месяц. Случайно на улице в Милане двое прохожих в разговоре упомянули имя Бьянки и Флоренцию. Быть может, речь шла о синьоре Федериго Бьянки, быть может, речь шла о синьоре Альбертине Бьянки, быть может, речь шла о флорентийском торговце мясом на Via Ricasoli, толстом и краснощеком синьоре Бьянки. Паганини не спрашивал. Утром он отправился во Флоренцию.
Там в это время давал концерты польский скрипач Липинский. Два скрипача после дружеской встречи устроили два общих концерта. Потом Паганини уговорил Липинского поехать вместе в Пьяченцу и в Геную.
Разговаривая о музыке, о том, что тогда занимало музыкальный мир, они не раз касались спора, возникшего в Париже и взволновавшего всех европейских музыкантов, спора между двумя музыкальными мэтрами – глубокомысленным Глюком, автором «Орфея», и «легким мелодистом» Пиччини. Паганини не понимал спора. «Чистое служение красивому звуку и чистое служение музыкальной идее» он настолько хорошо сочетал в своем собственном исполнении, что для него одинаково понятна была музыка и Пиччини и Глюка. Это были «законные» произведения. Но незаконным и смешным казался ему спор глюкистов и пиччинистов. Он считал эти названия комическими терминами, пригодными для оперы-буфф.
* * *
В Неаполь африканский корабль завез холеру.
– Сатана приносит этих путешественников! – кричал квартирный хозяин Паганини, и как ни уверял знаменитый скрипач своего хозяина, что его вовсе нельзя считать морским путешественником, – он приехал с дилижансом из Рима, – хозяин оставался неумолим.
Паганини решил быть твердым. Хозяин, старший сын хозяина, второй сын хозяина, дочь хозяина и хозяйка, вооруженные всем кухонным оружием, стояли у двери Паганини. Они вынесли на улицу его кровать, на нее положили все небольшое имущество скрипача, и поверх всего – знаменитую скрипку Гварнери. Стал накрапывать дождь. Паганини выбежал из комнаты, покрыл свое сокровище и вынужден был остаться на улице, так как командными высотами завладел противник. Дрожа от холодного, внезапно налетевшего осеннего дождя, в состоянии детской беспомощности, он стоял на улице, пока Липинский, пришедший его навестить, не перетащил его к себе на квартиру.
Паганини заболел. Во время болезни он узнал о страшных событиях, происшедших на севере. В Турине вспыхнуло восстание, подобное тому, какое было за год перед этим в Неаполе. Говорили об этом шепотом, точных сведений Паганини не получал.
Когда он приехал в Милан, расставшись со своим польским другом, он с ужасом увидел, что произошло. Неудачи карбонарских восстаний, вспыхивавших в разные сроки и без согласования действий южных и северных организаций, привели к многочисленным арестам. Арестованный карбонариями неаполитанский король, выпущенный после того, как дал клятву верности народу, теперь с помощью соединенных корпусов иностранных войск снова овладел престолом. Из-за излишней доверчивости карбонарских вождей были легко подавлены восстания в Турине и Милане.
Синьор Федериго Конфалоньери, Сильвио Пеллико, Марончелли и тысячи других были брошены в тюрьмы австрийскими властями.
На движение карбонариев римская церковь ответила изданием отрядов кальдерариев – котельщиков. Иезуитские агенты пригласили на службу римской церкви обыкновенных дорожных бандитов, мелких и крупных воров.
Получив благословение святейшего отца, отряды кальдерариев приступили к работе. Предварительная работа состояла в добывании сведений. На площадях ставились урны, в которые бросали списки. Священник тут же, около урны, давал доносчику отпущение грехов. Списки рассматривались в строжайшей тайне, потом, по прошествии более или менее короткого срока, заподозренные в причастности к карбонаризму исчезали.
Прочертив всю Италию колесами собственной кареты. которую ему в конце концов пришлось приобрести, Паганини снова остановился в Милане. Здесь Ролла передал ему дожидавшееся его письмо, и, торопясь разорвать конверт, Паганини почувствовал, как кровь ударила ему в голову.
Утром он мчался на юг и всю дорогу перечитывал строки потрясшего его письма.
«Неужели это любовь? Неужели она любит?» – с трепетом спрашивал он себя. Он уже не задавал себе вопроса, любит ли он ее.
С бьющимся сердцем подходит он к маленькому дому неподалеку от Испанской лестницы. На верхушке в лунном свете сияет церковь Тринита деи Монти, бродячий оркестр играет на волынках, девушка в белом платье и юноша в голубом сюртуке и голубой шляпе с кокардой штабного офицера крепко целуются, расставаясь на углу переулка. Паганини стучит в дверь. Стучит второй раз. Слышится недовольный шамкающий голос:
– Что надо?
Паганини спрашивает, может ли он видеть синьору Бьянки. Дверь приоткрывается.