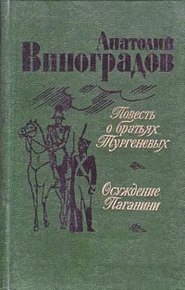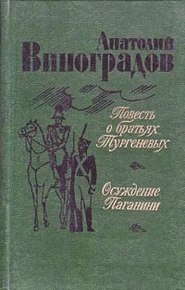По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три цвета времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Михаил Ней[16 - «Михаил Ней». – Ней Мишель – герцог Эльхингенский (1769 – 1815) – один из наполеоновских маршалов. По происхождению сын бочара, выдвинувшийся в период революции. Принимал участие почти во всех войнах Наполеона.]? – спросил Бейль.
– Да, маршал, сволочь, отнявшая у меня книжку Аретино с рисунками Джулио Романо![17 - …отнявший у меня книжку Аретино с рисунками Джулио Романо! – Аретино Пьетро (1492 – 1556) – итальянский писатель эпохи Возрождения. Романе Джулио (1499 – 1546) – знаменитый итальянский художник, талантливейший ученик Рафаэля.] Знаешь, что это за штука, Бейль? Сколько раз служила мне эта книга! Ведь она – лучшее руководство для просвещения молоденьких девушек.
– Что с вами сделалось, Таркини? – спросил Бейль. – Вы никогда так много не болтали. Вы говорите, как сводник-мальчишка в Неаполе. Я рад. Но где ваша жена?
– Жена? Жена от меня сбежала, если, впрочем, не я от нее убежал. Вы мне лучше скажите, почему вы бросили Мелани Гильбер?
Бейль с трудом овладел собою. Ему вспомнилась маленькая, прекрасно сложенная женщина с удивительным, волнующе тремолированным голосом, эта артистка, ради которой он, Бейль, переехал в Марсель, бросив все, из блестящего адъютанта Итальянской дивизии Мишо превратившись в марсельского приказчика бакалейной лавки. С ясностью, дразнящей и раздражающей, вспомнился ему тенистый берег речки Ювонны и голая, смеющаяся Мелани, кончающая купанье обычной шалостью – брызгами речной воды, бросаемой пригоршнями маленьких рук.
Таркини продолжал:
– Да, Мелани… Вот она вышла замуж за Баскова, за этого русского богача, только потому, что вы ее бросили, а сейчас она живет в соседнем квартале, и вам в голову не придет ее навестить!
Таркини был старым другом обоих: и писателя комедий, у которого ни одна пьеса не была принята, и артистки, которая превосходила его талантом экспрессии; Таркини видел в Марселе дни их наибольшего счастья. Эти дни когда-то казались нескончаемыми. Для обоих, и для Бейля и для Мелани, солнце не заходило и не иссякала беспечность. Давались клятвы друг другу в полной уверенности, что впереди еще много времени для того, чтобы нарушить эти клятвы. Воспоминание. Тонкая, белая марсельская пыль, разносимая по кровлям, по листве деревьев средиземноморским бризом. В сущности это была только пыль размолотых колесами горных дорог, ведущих к марсельской купеческой гавани. Семь лет тому назад именно эта пыль казалась Бейлю той самой дымкой туманящего счастья, сквозь которую он смотрел на все вещи и все предметы этого мира. За семь лет он стал понимать, что это только пыль, – не потому, чтобы внутренние ощущения его угасали, но потому, что возникли иные, более могущественные и сильные восприятия жизни. После Мелани Бейль ни к кому не мог привязаться. Он испытывал потребность в женском общении, но это было проявление того же острого любопытства к жизни, которое заставляло его с волнением входить в незнакомые кварталы Парижа, любопытство, влекшее его в чужие города, когда новое небо, облачная или солнечная погода, сливаясь с очертанием зданий и улиц, с разговорами незнакомых лиц, давали ему новые ощущения в жизни и восстанавливали его силы.
Ночная Москва с начавшимися пожарами и неожиданная встреча с Таркини в английской комнате Апраксина сделали Бейля необщительным. Мгновенно закипевшее волнение при мысли о том, что Мелани совсем рядом, не вырвалось у него наружу. С напускным спокойствием он спросил, который час. Но старик, улыбаясь, с пьяным лукавством сказал:
– Сейчас все равно поздно. Вежливый человек не приходит с визитом к сопернику в такое время. А впрочем, попытайтесь! Супруги Басковы, – с ударением произнес Таркини, – счастливо живут в доме князей Волконских. Местность эта называется Зубово. Там, около двухэтажного дома, сегодня утром я случайно встретил вашу марсельскую подругу. Адрес я узнал потому, что обещал навестить ее.
Голова Таркини свисла на плечо, и, развалясь в кресле, он заснул.
Бейль тихо, стараясь не разбудить Таркини, оделся, достал из баула два английских дальнобойных пистолета, спрятал за жилет короткий шварцвальдский кникер и, жалея, что этим исчерпывалось вооружение, привезенное им из разных странствований, направился к выходу. Он решил идти в канцелярию московского губернатора – маршала Мортье[18 - Мортье, Бесьер, Бертье – французские маршалы, сподвижники Наполеона.], единственное место, куда он мог бы добраться пешком, и там просить дежурного офицера указать ему дорогу. Но потом, взглянув на часы, заколебался.
Северная и западная башни Кремля были заняты офицерскими постами, чтобы наблюдать за движением огня. Он то затихал, то вспыхивал в разных местах. К полуночи ветер погнал огонь в направлении Кремля. Железные крыши и сплошь деревянные лачуги то там, то здесь покрывались языками пламени. В ночной темноте эти кварталы, охваченные пожаром, под ветром превращались в какого-то пятнистого, золотого леопарда, выкидывающего вперед огромную огненную лапу. Но вдруг ветер переменился. Усталые офицеры, успокоившись за участь армейского корпуса, положили сонные головы на письменный стол и, легши всей грудью, задремали.
В Кремлевском дворце в это время начинался военный совет. За большим красным столом, с которого нарочно не убирали алое сукно с двуглавыми золотыми орлами, сидели девяносто семь человек. Наполеон чувствовал себя лучше. Генералы шутили. Озабоченно ходил Мортье. Бессьер и Бертье, взявши друг друга под руку, стояли у окна, сговорившись по самому тревожному вопросу. У них в руках было доказательство невозможности похода на Петербург.
– Какой главный аргумент? – шепотом говорил Бессьер.
– Тот, что сам император предложит поход на Петербург, не веря в наше согласие.
– Да, но есть другое, – отвечал Бессьер, – вот перевод письма Александра к Салтыкову.
Уже 4 июля Александр пишет:
«Нужно вывезти из Петербурга: Совет, Сенат, Синод. Департаменты министерские. Банки. Монетный двор. Кадетские корпуса. Заведения, под непосредственным начальством императрицы Марии Федоровны состоящие. Арсенал. Архивы коллегии иностранных дел, Кабинетской. Из протчих всех важнейшие бумаги. Из придворного ведомства: серебро и золото в посудах. Лучшие картины Эрмитажа также и камни разные, хранящиеся также в ведении придворном, одежды прежних государей. Сестрорецкой завод с мастеровыми и теми машинами, которые можно будет забрать.
По достоверным известиям, Наполеон, в предположении вступить в Петербург, намеревается увезти из оного статую Петра Великого, подобно как он сие учинил уже из Венеции вывозом известных четырех коней бронзовых с плаца Св.Марка, и из Берлина триумфальной бронзовой колесницы с конями с ворот, называемых Бранденбургскими, то обе статуи Петра 1-го, большую и ту, которая перед Михайловским замком, снять и увезти на судах, как драгоценности, с которыми не хотим расставаться».
– Но как сделать, чтобы из твоей канцелярии это письмо не попало в руки императора? И насколько оно достоверно?
– Письмо это уже не попадет к нему в руки, – сказал Бессьер. – Как бы ни боялись русские, но зимний поход на Петербург против Витгенштейна кончится уничтожением армии. Теперь мы знаем, что такое русские дороги…
– Кстати, – сказал Бертье, – известно ли тебе, что Александр, русский царь, и Салтыков, которому написано это письмо, двоюродные братья?
– Какой вздор! – воскликнул Бессьер.
– Уверяю тебя. Здесь, за дверьми, мною приведен оставшийся в Москве директор русских архивов Бестужев[19 - … оставшийся в Москве директор русских архивов Бестужев. – По всей вероятности, речь идет о чиновнике Вотчинного департамента А. Д. Бестужеве-Рюмине, впоследствии описавшем свое пребывание в Москве, занятой наполеоновскими войсками.]. Император поручил мне разыскать в московских царских архивах доказательства незаконности русской династии. После резни помещиков в Витебской и Минской губерниях, которую устроила наша агитация среди крепостных рабов, пришлось отказаться от этого способа, как от якобинского террора[20 - После резни помещиков в Витебской и Минской губерниях, которую устроила наша агитация среди крепостных рабов, пришлось отказаться от этого способа, как якобинского террора. – Фактически Наполеон отказался от освобождения русского крестьянства сразу же по вступлении в Россию. На территории Белоруссии и Литвы наполеоновская армия прямо выступила в качестве охранительницы крепостного угнетения, подавляя крестьянские восстания. Впоследствии и сам Наполеон утверждал, что мог бы поднять против русского императора «большую часть… населения, провозгласив освобождение рабов… Но когда я увидел грубость этого многочисленного класса русского народа, я отказался от этой меры».В представлении наиболее передовой части французского общества отказ Наполеона от освобождения крестьян в России был окончательным отказом от завоеваний буржуазной французской революции.]. Но все же наш император оскорблен русским чванством. Он не дворянин. Теперь мы докажем, на какой соломе щенятся русские коронованные суки.
Бессьер не успел задать вопрос. Красный мундир, черное лицо и огромные белки навыкате показались из-за портьеры. Мамелюк Рустан и за ним два гвардейских гренадера торжественно вышли из-за дворцового занавеса и, встав по обе стороны входа, стукнули прикладами о ковер. Потом сделали честь ружьем от правой ноги правой рукой на штык. Воцарилось мертвое молчание. Быстрыми, короткими шагами Наполеон подошел и, резко отодвинув коленом широкое кресло, взял простой деревянный стул. Царское кресло с гербом упало. Рустан подошел и непочтительно уволок его в угол. Военный совет начался.
– Скифы жгут свое жилище, – начал Наполеон, – а Европа будет кричать о якобинском варварстве французов. Что сделали вы, господа маршалы и офицеры, для спасения Москвы от пожаров? Есть ли у вас доказательство того, что три четверти пожара не произошли от пьяного буйства солдат?
– Французская рука не поднималась на московские дома. Ручаюсь, как губернатор нашего нового города, ваше величество!
Наполеон ударил в ладоши. Под конвоем вошел пьяный французский гренадер с потушенным смоляным факелом в руках.
– Кто это? – спросил Бонапарт.
Мортье подошел и, взяв пьяного за ворот левой рукой, разорвал ему мундир. Восьмиконечный старообрядческий крест вывалился из-под грязной рубахи.
– Кто ты? – спросил Мортье.
Переодетый молчал.
– Привести переводчика! – сказал Мортье, обращаясь к начальнику конвоя.
Наполеон жадно слушал звуки чужого языка, быстро перекидывая глаза от переводчика на переодетого.
– Спросите, почему он молчал до сих пор, – сказал Наполеон.
– Это русский ночной сторож, ваше величество. Ему приказано молчать под угрозой казни. Сейчас он заговорил только потому, что, как он сам заявил, он готов к смерти.
Еще минута разговора. Переводчик оборачивается с бледным взволнованным лицом, повторяя:
– В Москве, оказывается, десятки тысяч крепостных, которым обещана вольная за поджоги, и столько же выпущено злодеев и убийц из тюрем с обещанием помилования за поджоги. Он говорит, что Москву сожгут дотла.
Бонапарт сделал резкий и пренебрежительный жест. Конвоиры вывели переодетого.
Вбегавший по лестнице на заседание совета граф Сегюр[21 - Сегюр Филипп Поль, де, граф (1780—1873) – французский военный деятель и писатель. В 1812 году состоял в свите Наполеона I. В 1824 году опубликовал книгу «История Наполеона и великой армии в течение 1812 года».], едва успевший пробиться в Кремль со своими младшими офицерами, увидел, как тут же, на каменной черной лестнице, французские солдаты колют штыками гренадера со смоляным факелом в руке. Сегюру было не до вопросов. Вбежав в зал совета, он с негодованием разыскивал Мортье. В ту минуту, когда военный совет выслушивал донесение Мюрата о том, что в русской армии, стоящей неподалеку от Москвы, начались бунты по случаю сдачи города и пожаров, Сегюр сделал знак губернатору. Мортье, злой и взбешенный, подошел к нему.
– Известно ли вам, – с бешенством шипел ему на ухо Сегюр, – что сейчас сквозь ряды спящих часовых вошел артиллерийский парк в незапертые кремлевские ворота? Достаточно одной искры, если пламя повернется на Кремль, чтобы все сидящие здесь, не исключая его…
Сегюр хотел сказать «его величество» – и запнулся…
Мортье понял и выбежал из зала.
Докладчик читал:
– «На аванпостах происходили мирные встречи французских солдат с казаками. Дважды приводили неукрощенных длинногривых коней, чтобы показать нашим солдатам бесконечные возможности роста русской кавалерии. Казаки уверяли, что в необъятных степях Азии неиссякаемые табуны перебрасываются все ближе и ближе к московскому дистрикту».
– Успел ли прочесть неаполитанский король эту болтовню? – спросил Наполеон резко. – Какому несчастному идеологу вы поручаете писать мне этот вздор? Прикажите ему написать стихи, а сейчас на словах переходите к делу. Бросьте вашу бумагу! Нынче утром я отправил царю предложение заключить мир. Если он откажется, пусть пеняет на себя.
Бонапарт разыскивал глазами Дарю. Маршал быстро встал и, отчеканивая каждое слово, произнес:
– В два часа пополудни русский штаб-офицер из госпиталя под специальной охраной парламентеров и снабженный всем необходимым отбыл по Петербургской дороге с письмом вашего величества.
Наполеон поднял руку. Дарю сел.