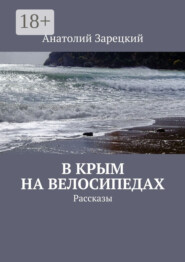По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юбилей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вышки, сынок, были только в Покатиловке. В институте их не было. Ты все перепутал, – сказала как-то мама. Я не стал спорить, потому что готов даже показать, где они стояли. Я вижу их очень отчетливо еще незамутненной детской памятью. Впрочем, как и все, что было тогда…
Немцы всегда улыбались, весело шутили, но никогда не насмехались и не обманывали меня, даже в шутку, как наши солдаты. Многих пленных я знал не только в лицо, но и по фамилии, а то и по имени. Мое немецкое имя Пуппи (Куколка) мне не нравилось, а моего настоящего имени многие немцы, похоже, не знали.
– Пуппи! Ком цу мир, – приглашал меня подойти кто-нибудь из солдат, едва я входил в любое из помещений, где находились пленные, – Битэ, – подавал он мне кусочек сахара или самодельную игрушку.
– Филен данк, – благодарил его за подарок.
А из другого конца помещения уже неслось очередное призывное: «Пуппи!» Кто-нибудь из сидящих на табуретах, сажал меня к себе на колени, и мы слушали импровизированный музыкальный номер, исполняемый на одной, а то и сразу на нескольких губных гармошках. А иногда солдаты, надев вместо пилоток смешные шляпки с перышками, пели необычные песни. Слушая удивительные переливы их голосов, я громко смеялся от восторга. Лишь через несколько лет, уже вне лагеря узнал, что слушал тирольские песни.
Мне нравились мои немецкие друзья, а особенно гер Бехтлов. Он единственный понимал меня, когда в разговоре я, не задумываясь, смешивал русские и немецкие слова. Он тут же все повторял, но по-немецки, без русских слов.
– Варум? – часто спрашивал его, и он терпеливо отвечал на многочисленные вопросы маленького «почемучки». Именно гер Бехтлов несколько лет нашей дружбы открывал мне окружающий мир…
– Ауф штейн! Штильге штанген! – командовал унтер-офицер и все, включая меня, вскакивали и вытягивались в струнку, держа руки на бедрах. Входил немецкий офицер. Офицеры – такие же пленные, как и рядовой состав, но немецкий армейский порядок есть порядок. И я это понимал и принимал как должное.
Мне нравился немецкий порядок. Мне нравились немецкие офицеры – строгие и недоступные. С ними нельзя было заговорить первым, можно лишь отвечать на их вопросы. Они почти не говорили со мной, как рядовые солдаты, зато часто одобрительно похлопывали по плечу. В моей памяти они остались ухоженными и аккуратными людьми в красивой форме.
Но больше всех мне нравилась летчики Люфтваффе. У них была самая красивая форма. К тому же только они угощали необычным лакомством – шоколадом. Иногда они предлагали сначала полетать, и когда соглашался, подбрасывали к потолку и ловили у самого пола. У меня захватывал дух, было немножечко страшно, но я не плакал, а наоборот – громко смеялся от необычных ощущений. Летчики тоже смеялись и говорили, что я непременно буду русским летчиком. Что такое быть летчиком, я не знал и, как всегда, засыпал вопросами гера Бехтлова.
– Если станешь летчиком, будешь, как они, сильным, ловким, в красивой форме, – отвечал тот, – А главное, будешь летать в небе, как Ангел.
Похоже, именно тогда зародилось смутное желание летать…
Наши офицеры, как и немецкие, никогда со мной не говорили. А из охраны лагеря со мной дружил лишь дядя Вова Макаров. Он был сержантом. Это, правда, я узнал позже, когда расспрашивал его о подробностях нашей лагерной жизни. Наши семьи дружили с тех самых времен и вплоть до смерти моего отца и самого дяди Вовы. Война застала его, шестнадцатилетнего мальчишку, на отдыхе в деревне, куда его отправили родители-ленинградцы. Он попал в партизанский отряд, и воевал до тех пор, пока наши ни освободили район дислокации отряда. Самым сильным впечатлением войны был эпизод, когда он, мальчишка, пытался переплыть какую-то довольно широкую реку, а по нему просто так, ради забавы, немцы вели прицельный огонь из пулемета. Они смеялись, шутили, и стреляли, отсекая его то от одного, то от другого берега. Он тогда чуть ни утонул, но глубоко нырнул и под водой все же ушел от обстрела. А когда вернулся в Ленинград, узнал, что его родители погибли в блокаду. Других родственников у него не было, и он ушел добровольцем на фронт. Воевал до Победы, а потом остался на сверхсрочную службу. Так дядя Вова оказался в лагере.
Дядя Вова люто ненавидел немцев. Но в лагере я этого не замечал. Правда, он всегда запрещал брать что-либо у офицеров, когда те угощали, и очень сердился, когда я не слушал его и поступал по-своему. Но мне нравился шоколад, а больше никто не мог дать ничего подобного. Тогда не было никаких конфет и других сладостей. Конфеты-подушечки я впервые попробовал в пятьдесят первом году, когда мне было почти семь лет, и мы уже жили не в лагере.
Жена дяди Вовы – тетя Нина Неженец – работала в лагере переводчицей. Ее родители были известными учеными и жили в Харькове. Оба имели профессорские звания и возглавляли кафедры в Харьковском сельскохозяйственном институте. Тетя Нина в семнадцать лет ушла добровольцем на фронт и прошла всю войну. Она служила в штабах разного уровня, а поскольку великолепно знала немецкий язык, участвовала в допросах «языков» и пленных немцев. В конце концов, она оказалась в лагере немецких военнопленных, размещенном в ее родном городе. Ей нравилось, когда я говорил с ней по-немецки. Но если рядом был дядя Вова, говорить надо было только по-русски…
Мне было пять лет, когда нас переселили в двухэтажный домик на территории лагеря. Здесь был маленький дворик, в котором росла гигантская акация и несколько больших кустов сирени. Но в той квартире мы прожили меньше года.
А за несколько месяцев до того, как заболел и больше не вернулся в лагерь, у меня появилась подружка Любочка – дочь переводчицы и охранника лагеря. Они были новенькими в лагере, их поселили в соседней квартире нашего домика.
У Любочки была огромная кукла, у меня – деревянные самодельные игрушки. Она научила меня игре в дочки-матери, я же никаких игр не знал, поэтому учил ее немецким словам. С ее мамой говорил в основном по-немецки, и очень удивлялся, почему Любочка не понимает, что говорит ее мама и немцы, которые иногда заходили в наш дворик посмотреть на нас. Я ежедневно навещал своих друзей-немцев, живущих в зоне, но Любочку туда не пускали.
Мы покинули лагерь, когда мне исполнилось шесть лет, то есть когда как личность я вполне сформировался. И теперь не только внешностью и знанием языка, но и характером больше напоминал немецкого ребенка, чем русского. Все последующие годы я сам и окружающие с большим трудом ломали этот характер…
Из лагерной среды, где меня окружали лишь взрослые, я попал в обычный городской двор послевоенной поры, где господствовала шпана и почиталась сила. Даже для сверстников я был чужаком, которому еще предстояло доказать, чего стоишь. Я же держался особняком, предпочитая независимость, и довольно скоро настороженность дворовых ребят сменилась откровенной враждебностью.
Как-то в канун Первомая пятьдесят второго года я стоял у дома и смотрел, как украшали здание общежития «Гигант». Только что вывесили гигантское панно, на котором красовалась четверка вождей Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин.
– Карла Маркс, Федорыч Энгельс, Ленин, Сталин, – неожиданно остановился около меня второгодник Тимоха, сын дворника из этого общежития.
– Не Карла, а Карл и не Федорыч, а Фридрих, – поправил его.
– А ты откуда знаешь, малявка? – возмутился Тимоха, – В школу не ходишь, а учишь старших.
– Знаю… У них немецкие имена. Они немцы, – сообщил ему очевидную для меня истину.
– Кто?! Маркс и Энгельс немцы?! – схватил меня за грудки десятилетний крепыш, – Сам ты фашист! – крепко стукнул меня тупой второгодник.
Тогда удалось вырваться и убежать. Но я легко представил, что было, если бы весь наш двор узнал о моих друзьях-немцах.
С тех пор, кроме моей новой подружки Людочки, я больше никому не рассказывал о своей жизни среди немцев. Это стало моей тайной.
Лишь через два десятка лет от скуки и под настроение разоткровенничался и рассказал своему армейскому другу Жене Иксанову кое-что о жизни в лагере военнопленных и наиболее памятных событиях детства.
А начал с эпизодов, которые вызвали у меня приступы жуткого страха. Я помню их необыкновенно отчетливо, вместе с пережитыми ощущениями. Они часто всплывали в моих снах, особенно в детские годы, и я просыпался от ужаса, весь в слезах.
Первый эпизод связан с концертом, который давали немцы в честь какого-то праздника. Сцена была сооружена во внутреннем дворике нашего лагеря, и я смотрел представление прямо из окошка второго этажа здания института. Выступали два немца с куклой-марионеткой. Один немец спрашивал куклу, а она, к моему изумлению, сама ему отвечала. Кукла, разумеется, после этого представлялась мне живой девочкой. Вместе со всеми я громко смеялся и даже переводил кое-что отцу, слабо знавшему язык. Но вот номер завершен, и девочку, к моему ужасу, свернули пополам, потом еще раз пополам и положили в чемодан.
Раздались аплодисменты, а я закричал от страха. Я живо представил, как плохо этой изуродованной девочке в тесном чемодане. Знакомые немцы услышали мой плач и возмущенные крики. Из сбивчивых объяснений сквозь слезы, они все поняли, быстро пообщались с артистами, и куклу моментально извлекли из чемодана. Она ушла за кулисы самостоятельно.
Чуть позже отец отвел меня к артистам. Те показали куклу, дали ее потрогать и даже продемонстрировали, как говорят за нее. Но я тогда не очень им поверил. И страх затаился в глубинах подсознания.
Второй эпизод связан с прохождением мимо лагеря механизированной колонны. Как-то раз я услышал нарастающий грохот и скрежет. Выглянул в окошко и увидел много движущихся огромных, невиданных чудовищ, из которых сзади выходил черный дым, а снизу сыпались искры. Вскоре наш маленький домик уже сотрясался, как при легком землетрясении. Я испугался и заплакал, мама взяла на руки, и попыталась успокоить. Меня вынесли на улицу.
Я увидел, что отовсюду из тех чудовищ выглядывали люди, и что-то громко кричали, размахивая руками. От некоторых уже осталась одна голова, торчащая прямо из пасти. Совсем недавно мне прочли страшную сказку о драконе, из которого шел огонь и дым, и который ел людей. Я не представлял, как выглядит дракон из сказки, но то, что видел, было очень похожим. И этих драконов много! Мне было страшно, и я удивлялся, что мама их не боится и даже улыбается. Помногу успокоился и стал смотреть. Но все равно продолжал бояться.
А вдоль забора из колючей проволоки стояли немцы и хмуро смотрели на драконов. Я никогда не видел их такими. Они всегда были веселыми. Тогда подумал, что они тоже боятся драконов.
Подошел папа, взял меня у мамы и сказал:
– Не бойся, сынок, это наши танки.
Я не знал, что такое танки, но зато понял, что это не драконы. Папа их тоже не боялся и улыбался, как и мама. Тогда я совсем перестал бояться и крикнул немцам:
– Не бойтесь, это наши! – я не знал, как по-немецки сказать «танки», и потому просто кричал им, – Это наши! Это наши! Не бойтесь!
Но они все равно боялись. А один строго посмотрел на меня и сказал:
– Ты глупый ребенок.
Я не понимал, почему он так плохо сказал обо мне, а другого ребенка здесь не было. И от обиды закричал ему:
– Я не глупый! Я не глупый!
А папа, который тоже ничего не понял, спросил:
– Что ты им все кричишь, сынок?
Я не успел ответить, потому что мой друг, гер Бехтлов, громко сказал тому немцу:
– Он не глупый – он маленький! – махнул мне рукой и засмеялся.
Другие немцы тоже стали улыбаться и даже смеяться. И я обрадовался, что немцы перестали бояться наших танков.
Колонна шла долго, около часа. Я и сейчас, как наяву, вижу те стальные машины. Они были не такими, какие потом видел на парадах. Они были серыми от пыли, некоторые – с вмятинами от снарядов, и все с огромными железными бочками, закрепленными на броне.