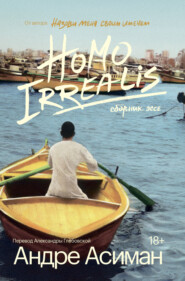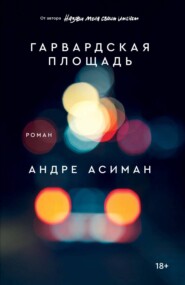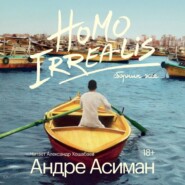По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Алиби
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
, этилбутират; C
H
O
, этилвалерат (банан); C
H
NO
, метилантранилат (виноград); C
H
O
, бензилацетат (персик); C
H
O
, этилфенилацетат (мед); C
H
O
, октилацетат (апельсин-абрикос); C
H
O
, этил деканоат (коньяк); C
H
O
, кумарин (лаванда). Скажи «лаванда» – и вот тебе аромат, цепочка, жизненный путь.
В этом и состояла гениальность Менделеева. В понимании, что, хотя он и способен определить любой элемент, многие из них еще не открыты. Поэтому он оставил в таблице пустые места – для отсутствующих, грядущих элементов – как будто жизненные события можно выстроить в столь четкую идеализированную числовую последовательность, что, даже если и не знать, когда они случатся и какое воздействие окажут, их все равно следует ожидать, высвобождать для них место еще до их наступления. В том же ключе я рассматриваю и свою жизнь, вглядываюсь в слепые места: в запахи, которые так для себя и не открыл; флаконы, на которые не наткнулся и не проведал про их существование; обличия, которые так и не принял и потому по ним не скучаю; в интервалы времени, которые мог бы прожить, но не прожил; в людей, с которыми мог бы встретиться, но встречу пропустил; места, в которые мог бы попасть, влюбиться в них и в итоге сделать своим домом, но до которых так и не добрался. Это пустые клетки, «редкоземельные» моменты, непройденные пути.
II
Есть и еще один аромат, женские духи. Не знаю никого, кто бы ими пользовался. Никто с ними не ассоциируется.
Я открыл его однажды осенним вечером, возвращаясь домой с университетского семинара. В Кембридже, что в штате Массачусетс, на Брэттл-стрит есть одна высококлассная аптека, и мне случалось – просто чтобы поваландаться и не попасть домой раньше нужного – пойти кружным путем и в ней приостановиться. Мне нравилась Брэттл-стрит в районе Гарвардской площади, особенно ранним вечером, когда витрины магазинов сияют, а люди возвращаются с работы, заканчивают дневные дела, кто-то ведет за руку детей, суета прохожих придает тротуарам плотность, которую я со временем полюбил, – хотя бы потому, что она вроде бы содержала в себе посулы на вечер, пусть я уже успел убедиться в их лживости. Только на тротуаре я и чувствовал себя дома в этой неприветливой безликой части города, где столько времени и столько лет растратил в одиночестве, где все, кого я знал, всегда были слишком заняты слишком мелочными заботами. Я скучал по дому, по людям, ненавидел одиночество, скучал по чаю, пил чай в одиночестве, чтобы вспомнить, каково это – чай рядом с кем-то еще.
В такие вечера алжирские кафе всегда заполнялись до отказа. Приятно было выпить чаю с незнакомцами, пусть даже я с ними никогда и не заговаривал. Зиккурат чайных жестянок высился на захламленном прилавке за кассовым аппаратом. В итоге я перепробовал все чаи, от дарджилинга до формозского улуна, лапсана-сушона и зеленого пороха. Само представление о чае нравилось мне больше собственно вкуса – так и табак приятнее представлять, чем курить, а составлять представление о людях приятнее, чем с ними дружиться, и моя квартира на Крейги-стрит была куда хуже представления о доме.
Аптека находилась в конце череды магазинов возле угла Черч-стрит. Крайняя точка перед тем, как повернуть и направиться к дому. Я зашел туда однажды вечером. Внутри оказался мир совсем иной, чем я себе воображал. Крошечная аптека была забита дорогими косметическими средствами, дорогими духами, шампунями со всех концов земли, кусками мыла из Старого Света, бальзамами, лосьонами, полосатыми зубными щетками, кисточками из натурального меха, имперскими кремами для бритья. Мне там очень понравилось. Старомодные шкафы, старомодные товары, общая старина этой лавки – во всем, вплоть до стародавних бритв и пожилых владельцев из Центральной Европы, – все это выглядело таким приветливым, уютным. Вот я и спросил – нельзя же просто валандаться, ничего не купив, – лосьон для бритья, про который думал, что его не окажется, а выяснилось, что он не только есть в наличии, но с ним и еще целая линейка той же фирмы. Вот и пришлось купить вещь, пользоваться которой я перестал лет десять назад.
Через несколько дней я пришел снова, и не только потому, что визит в аптеку позволял отсрочить неизбежное возвращение домой, не потому, что хотелось повторить этот опыт – дверь открывается, перед тобой целая вселенная ушедшей в прошлое галантереи, – а потому, что сама эта лавка стала последней остановкой в воображаемом Старом Свете, прежде чем мир превратится в то, чем является на самом деле: в Кембридж.
Еще раз я пришел однажды в самом начале вечера, после сеанса в кинотеатре «Брэттл». Пока шел французский фильм, снаружи начался снегопад, Кембридж стремительно заметало, все говорило о том, что ночью будет метель. Перед входом в кинотеатр над Брэттл-стрит образовался сияющий ореол – такой же, как и над городком Клермон-Ферран в фильме. Машин почти не было, и соседские детишки собрались у входа в ресторан «Касабланка» с санками – они намеревались отправиться на реку Чарльз. Я им завидовал.
Домой не хотелось. Вместо этого я решил добрести до своей аптеки. Цель ничем не хуже любой другой. Я как можно стремительнее захлопнул стеклянную дверь, причем потопал снаружи ногами, прежде чем шагнуть под крышу. Внутри стояла молодая светловолосая женщина с мальчиком лет четырех и прижимала платок к носу сына. Мальчик пытался высморкаться, но безуспешно. Мать улыбнулась ему, продавщице, мне – едва ли не с извинением, потом свернула платок и еще раз поднесла к носу сына. «Noch einmal», – скомандовала она. Мальчик высунул голову из красного капюшона и постарался. «Noch einmal», – повторила она увещевающе, напомнив мне мою собственную маму: когда она уговаривала меня сделать что-то для меня полезное, голос ее наполнялся таким безграничным терпением, что я вдруг осознал, насколько отдалился от любви всех других. Через несколько секунд в зале потянуло холодом. Мать открыла дверь и вместе с закутанным ребенком вышла наружу.[2 - Еще раз (нем.).]
Внутри остались только мы с продавщицей. То ли в такой зачарованный вечер у нее уже не было никакого желания заниматься работой, то ли потому, что время уже шло к закрытию, продавщица – она уже неплохо меня знала – предложила мне понюхать совершенно особую вещь, произнесла название духов.
Слышал такое? Мне показалось, что слышал, но, подумав, я усомнился. Не обращая внимания на мои попытки отговориться, она открыла крошечный флакон. Смочила стеклянную пробку и дотронулась ею до своей кожи жестом, который я воспринял как попытку погладить меня по щеке – меня бы это и не удивило, я давно ощущал, что у нее ко мне слабость, в частности, поэтому и приходил, – но она мягко поднесла гладкое обнаженное запястье к моим губам, и я бы, наверное, поцеловал его, не подумав, если бы не видел раньше, как и другие торговцы парфюмерией делают в точности такой же жест.
Никогда раньше мне не доводилось нюхать ничего даже отдаленно похожего. Я одновременно оказался в Таиланде, во Франции и на судне, направлявшемся в Босфор, – на борту женщины, закутанные среди лета в меха, они обсуждают «Медленную часть» Веберна, поворачиваются ко мне, шепчут: «Noch einmal?» Аромат этот затмил все прочие, которые я знал раньше. В нем присутствовала лаванда, но лаванда развоплощенная, рассеянная, разрозненная – именно поэтому я попросил у продавщицы разрешение еще раз понюхать ее запястье, но она, видимо, уловила подтекст моей просьбы и засомневалась, как сомневался и я, что речь тут об одних лишь духах. Вместо этого она мазнула крышкой по полоске бумаги, которую выхватила из пенальчика, набитого такими же полосками, слегка помахала ею в воздухе, подсушивая, а потом вручила мне с заговорщицким видом – было видно, что ее моей любознательностью не проведешь, она уже догадалась, что в жизни моей и так уже есть как минимум две женщины, которым хочется одного: чтобы эта полоска, которую я принесу вечером домой, через несколько дней превратилась в подарочный флакон. Взгляд ее польстил мне невыразимо.
На третий вечер я пришел снова, потом опять – теперь уже не ради лавки, и не ради снега, и даже не ради призрачного вечернего свечения над Брэттл-стрит, но ради открытия, содержавшегося в этом флаконе, ради женщин в мехах, которые курили сигариллы на борту яхты, глядя, как Геллеспонт тает вдали. Я даже не знал, были ли духи причиной моего там появления, или они уже превратились в предлог, в маску под маской, потому что, даже если на самом деле я приходил к продавщице или к тем женщинам, образ которых вызывало во мне искрение ее глаз, я одновременно ощущал, что за нею маячит силуэт другой женщины, моей матери, в другой парфюмерной маске, притом что я чувствовал, что и она, скорее всего, не более чем маска, за которой скрывается мой отец, в давние-давние уже времена: он стоит перед зеркалом, довольный тем, что он – тот мужчина, которым был, когда смачивал щеки лавандовой водою после бритья. И он, как теперь и все остальные, истончился до полупрозрачной маски, символа любви и счастья, которые я пытался обрести, но уже отчаялся. Точно непостижимый мираж, запах взывал ко мне с другого края пропасти, пересечь которую так трудно, что я подумал: возможно, это и с любовью никак не связано тоже, ибо любовь не может быть источником таких тягот, а значит, наверное, и любовь лишь маска, и если я жажду не любви, то, значит, слив этого водоворота, в котором я вращаюсь, обусловлен лишь мной – и мной только, – но мной, расточившимся в стольких пространствах, на стольких уровнях, что при попытке прикосновения я ускользаю подобно ртути, или скрываюсь подобно лантаноиду, или всплываю наверх, чтобы через миг превратиться в какое-то безнадежно безликое вещество.
Духи оказались настолько дорогими, что унести с собою я смог – предварительно рассыпавшись в новых извинениях, которые, похоже, стали для продавщицы доказательством того, что в моей жизни действительно есть другие женщины, – лишь взвесь на полоске бумаги. Полоску я сохранил как вещь, принадлежавшую человеку, уехавшему на время: он меня не простит, если я не стану нюхать ее ежедневно.
Примерно через неделю, еще раз посмотрев тот же фильм, я выскочил из кинотеатра и зашагал к аптеке – но оказалось, что уже закрыто. Я постоял там несколько минут, вспоминая тот вечер, когда видел здесь мать с сыном, вспомнил ее светлые волосы, убранные под шляпу, глаза, которые, блуждая по залу, поймали мой взгляд, пока она уговаривала мальчика, – она будто уловила во мне одновременно и вожделение, и зависть. Может, она нарочно сделала взгляд подчеркнуто материнским, чтобы пресечь любые попытки вступить в беседу? Может, продавщица перехватила мой взгляд?
И вот я представил себе, как мать с сыном выходят из лавки, на Черч-стрит, мать с трудом раскрывает зонт, и они направляются в сторону Кембридж-Коммон, бредут через пустынное поле, яркие сапожки глубоко увязают в снегу, спины повернуты ко мне навеки. Все это казалось настолько реальным, и исчезали они с такой торопливостью, подстегиваемые ветром, что я едва пресек порыв выкрикнуть единственные известные мне слова:
– Frau Noch Einmal… Frau Noch Einmal…[3 - Госпожа Еще Раз (нем.).]
Я тогда представил себе, что это мои жена с сыном, – я всею душою мечтал о том, что они у меня когда-то появятся. Я возвращаюсь домой с работы, выхожу из автобуса на Гарвардской площади, она в последний момент перед ужином выбежала туда же по делу, купить ему игрушку в аптеке, потому что утром пообещала: «Ну подумаешь, ну избалуем его слегка! Ну надо же – вот так вот столкнуться в снегу, да еще именно сегодня!» Но теперь, с расстояния во много лет, я думаю, что она могла быть моей матерью, а тот мальчик – мной. А может, это, как всегда, просто маска. Я был одновременно и собой, и своим отцом, собой-студентом, вместо библиотеки отправившимся в кино, собой – отцом этого мальчика, причем лучше настоящего: я, наверное, дам ему подольше положенного насладиться детством, а в будущем стану давать ему неопределенные советы касательно грядущего, – и все это напомнило мне о том, что шпаргалки, которые мы тайком проносим с собою сквозь время, написаны симпатическими чернилами.
Тому мальчику из аптеки сейчас тридцать лет – на пять больше, чем было мне, когда я счел себя достаточно взрослым, чтобы назваться его отцом. При этом, если я и сегодня моложе его в его тридцать лет, все равно в тот заснеженный день я был куда старше нас обоих нынешних.
Время от времени я возвращаюсь к этим духам, особенно когда брожу по косметическому отделу на первом этаже очередного большого универмага. Я неизменно прикидываюсь тупицей: «А это что?» – спрашиваю я, изображая мужа-невежду, пытающегося срочно купить жене подарок. Мне рассказывают, меня опрыскивают, мне выдают надушенные полосочки, я их засовываю в карман пальто, вынимаю оттуда, кладу обратно, уношусь мыслями к тем дням, когда мечтал о жизни, которую, кажется, все-таки не прожил.
Возможно, аромат – это самая надежная маска, маска, отделяющая меня от мира, меня от меня, меня другого, теневого меня, за которым я следую, которого распознаю, но признать не могу, ощущая при этом, что эти разговоры про другого меня сами по себе – самая обманчивая маска. С другой стороны, возможно, аромат – это всего лишь метафора для слова «нет», которое я сочетал со всем, что видел, хотя спокойно мог на его место поставить «да» – в разговорах с собой, с отцом, с жизнью, – возможно, потому, что я никогда и ничего в этом мире не любил достаточно сильно и надеялся скрыть этот факт от самого себя, заслонившись мыслью, что лучше мне поискать в другом месте, или потому, что я любил и вожделел каждый из этих ароматов, но все не мог решить, на котором остановиться, а значит, лучшее припрятал до того дня, когда подкатит вторая жизнь. Вот ведь занятно: вожделенными мне кажутся единственные духи – те, которые я так и не купил. Причем именно их все знакомые мне женщины коварно отказывались носить. Соответственно, при мысли о них вспомнить мне некого. Эти духи – символ придуманной жизни, но из них не лепится ни один образ.
Прошлой зимой я вернулся в ту аптеку с девятилетним сыном. Мы обходили окрестности – я теперь так всегда делаю, если возвращаюсь в места, которые слишком прочно вплетены в ткань моей жизни, так, что даже нет смысла задаваться вопросом, любил я их когда-то или нет. Как всегда, прикидываюсь, что выбираю духи для жены. «Как думаешь, эти маме понравятся?» – спрашиваю я у сына, надеясь, что он ответит «нет», он так и отвечает. Я извиняюсь. Мы рассматриваем зубные щетки, мыло, старомодную зубную пасту, вот передо мной даже отцовский лосьон для бритья – таращится едва ли не с укором. Даю сыну его понюхать. Ему нравится. Спрашиваю, узнаёт ли. Узнаёт. Пробуем другой. Он ему тоже нравится. Ловлю себя на надежде, что сын сейчас создает собственные воспоминания.
Ничего не купив, мы открываем стеклянную дверь и выходим. Резкий поворот направо, шагаем через Коммон. Я пытаюсь рассказать сыну, что однажды, почти тридцать лет назад, увидел его здесь мельком. Он на меня смотрит как на сумасшедшего. Или, может, это я себя тут увидел много лет назад, спрашиваю я у него. Он говорит мне взглядом: ну ты и ненормальный. Хочется ему рассказать про фрау Нох Айнмаль, вот только не подобрать слов. Вместо этого говорю: рад, что мы здесь вместе. Он отшучивается. Я отшучиваюсь в ответ.
Тем не менее я все же останавливаюсь немного постоять на том самом месте и вспоминаю, как в тот вечер едва не выкрикнул: «noch einmal», обращаясь к ветру на пустых заснеженных улицах Кембриджа, вспоминаю ту немку и ее счастливчика мужа, как он каждый вечер возвращается с работы. Вот здесь, в двадцать пять лет, я придумал жизнь, которую надеялся прожить. А сейчас, в пятьдесят, на миг вернулся к этой жизни, существовавшей лишь в моем воображении.
Прожил ли я ее? Прожил ли я предначертанную мне жизнь? Которая из них важнее, которая мне лучше помнится: та, которую я придумал, или та, которая воплотилась в реальность? Или я уже сейчас, до срока, забываю их обе, жизнь одну за другой забирает назад те вещи, которые я надеялся сохранить навсегда, одну за другой переворачивает карты рубашкой вверх, чтобы сдать другому его талью?
Ла-Буйадис, июнь 2001 года
Домик, в котором мы гостим неподалеку от Экс-ан-Прованса, окружен зарослями лаванды, которые зыблются и волнуются всякий раз, как над полями пролетает ветер. Завтра последний наш день в Провансе, мы уже перестирали всю одежду и развесили сушиться на солнце. Я знаю, что в следующий раз эту рубашку надену уже на Манхэттене. Знаю и то, что запах солнечного света и лаванды, укрывшийся в складках, вернет меня обратно в этот лучезарный провансальский день.
Десять утра, я стою в саду рядом с плетеной корзиной, куда сложено выстиранное белье. Жена пока не знает, что я решил развесить белье самостоятельно. Пусть ей будет сюрприз. И я уже сварил кофе.
H
O
, этилвалерат (банан); C
H
NO
, метилантранилат (виноград); C
H
O
, бензилацетат (персик); C
H
O
, этилфенилацетат (мед); C
H
O
, октилацетат (апельсин-абрикос); C
H
O
, этил деканоат (коньяк); C
H
O
, кумарин (лаванда). Скажи «лаванда» – и вот тебе аромат, цепочка, жизненный путь.
В этом и состояла гениальность Менделеева. В понимании, что, хотя он и способен определить любой элемент, многие из них еще не открыты. Поэтому он оставил в таблице пустые места – для отсутствующих, грядущих элементов – как будто жизненные события можно выстроить в столь четкую идеализированную числовую последовательность, что, даже если и не знать, когда они случатся и какое воздействие окажут, их все равно следует ожидать, высвобождать для них место еще до их наступления. В том же ключе я рассматриваю и свою жизнь, вглядываюсь в слепые места: в запахи, которые так для себя и не открыл; флаконы, на которые не наткнулся и не проведал про их существование; обличия, которые так и не принял и потому по ним не скучаю; в интервалы времени, которые мог бы прожить, но не прожил; в людей, с которыми мог бы встретиться, но встречу пропустил; места, в которые мог бы попасть, влюбиться в них и в итоге сделать своим домом, но до которых так и не добрался. Это пустые клетки, «редкоземельные» моменты, непройденные пути.
II
Есть и еще один аромат, женские духи. Не знаю никого, кто бы ими пользовался. Никто с ними не ассоциируется.
Я открыл его однажды осенним вечером, возвращаясь домой с университетского семинара. В Кембридже, что в штате Массачусетс, на Брэттл-стрит есть одна высококлассная аптека, и мне случалось – просто чтобы поваландаться и не попасть домой раньше нужного – пойти кружным путем и в ней приостановиться. Мне нравилась Брэттл-стрит в районе Гарвардской площади, особенно ранним вечером, когда витрины магазинов сияют, а люди возвращаются с работы, заканчивают дневные дела, кто-то ведет за руку детей, суета прохожих придает тротуарам плотность, которую я со временем полюбил, – хотя бы потому, что она вроде бы содержала в себе посулы на вечер, пусть я уже успел убедиться в их лживости. Только на тротуаре я и чувствовал себя дома в этой неприветливой безликой части города, где столько времени и столько лет растратил в одиночестве, где все, кого я знал, всегда были слишком заняты слишком мелочными заботами. Я скучал по дому, по людям, ненавидел одиночество, скучал по чаю, пил чай в одиночестве, чтобы вспомнить, каково это – чай рядом с кем-то еще.
В такие вечера алжирские кафе всегда заполнялись до отказа. Приятно было выпить чаю с незнакомцами, пусть даже я с ними никогда и не заговаривал. Зиккурат чайных жестянок высился на захламленном прилавке за кассовым аппаратом. В итоге я перепробовал все чаи, от дарджилинга до формозского улуна, лапсана-сушона и зеленого пороха. Само представление о чае нравилось мне больше собственно вкуса – так и табак приятнее представлять, чем курить, а составлять представление о людях приятнее, чем с ними дружиться, и моя квартира на Крейги-стрит была куда хуже представления о доме.
Аптека находилась в конце череды магазинов возле угла Черч-стрит. Крайняя точка перед тем, как повернуть и направиться к дому. Я зашел туда однажды вечером. Внутри оказался мир совсем иной, чем я себе воображал. Крошечная аптека была забита дорогими косметическими средствами, дорогими духами, шампунями со всех концов земли, кусками мыла из Старого Света, бальзамами, лосьонами, полосатыми зубными щетками, кисточками из натурального меха, имперскими кремами для бритья. Мне там очень понравилось. Старомодные шкафы, старомодные товары, общая старина этой лавки – во всем, вплоть до стародавних бритв и пожилых владельцев из Центральной Европы, – все это выглядело таким приветливым, уютным. Вот я и спросил – нельзя же просто валандаться, ничего не купив, – лосьон для бритья, про который думал, что его не окажется, а выяснилось, что он не только есть в наличии, но с ним и еще целая линейка той же фирмы. Вот и пришлось купить вещь, пользоваться которой я перестал лет десять назад.
Через несколько дней я пришел снова, и не только потому, что визит в аптеку позволял отсрочить неизбежное возвращение домой, не потому, что хотелось повторить этот опыт – дверь открывается, перед тобой целая вселенная ушедшей в прошлое галантереи, – а потому, что сама эта лавка стала последней остановкой в воображаемом Старом Свете, прежде чем мир превратится в то, чем является на самом деле: в Кембридж.
Еще раз я пришел однажды в самом начале вечера, после сеанса в кинотеатре «Брэттл». Пока шел французский фильм, снаружи начался снегопад, Кембридж стремительно заметало, все говорило о том, что ночью будет метель. Перед входом в кинотеатр над Брэттл-стрит образовался сияющий ореол – такой же, как и над городком Клермон-Ферран в фильме. Машин почти не было, и соседские детишки собрались у входа в ресторан «Касабланка» с санками – они намеревались отправиться на реку Чарльз. Я им завидовал.
Домой не хотелось. Вместо этого я решил добрести до своей аптеки. Цель ничем не хуже любой другой. Я как можно стремительнее захлопнул стеклянную дверь, причем потопал снаружи ногами, прежде чем шагнуть под крышу. Внутри стояла молодая светловолосая женщина с мальчиком лет четырех и прижимала платок к носу сына. Мальчик пытался высморкаться, но безуспешно. Мать улыбнулась ему, продавщице, мне – едва ли не с извинением, потом свернула платок и еще раз поднесла к носу сына. «Noch einmal», – скомандовала она. Мальчик высунул голову из красного капюшона и постарался. «Noch einmal», – повторила она увещевающе, напомнив мне мою собственную маму: когда она уговаривала меня сделать что-то для меня полезное, голос ее наполнялся таким безграничным терпением, что я вдруг осознал, насколько отдалился от любви всех других. Через несколько секунд в зале потянуло холодом. Мать открыла дверь и вместе с закутанным ребенком вышла наружу.[2 - Еще раз (нем.).]
Внутри остались только мы с продавщицей. То ли в такой зачарованный вечер у нее уже не было никакого желания заниматься работой, то ли потому, что время уже шло к закрытию, продавщица – она уже неплохо меня знала – предложила мне понюхать совершенно особую вещь, произнесла название духов.
Слышал такое? Мне показалось, что слышал, но, подумав, я усомнился. Не обращая внимания на мои попытки отговориться, она открыла крошечный флакон. Смочила стеклянную пробку и дотронулась ею до своей кожи жестом, который я воспринял как попытку погладить меня по щеке – меня бы это и не удивило, я давно ощущал, что у нее ко мне слабость, в частности, поэтому и приходил, – но она мягко поднесла гладкое обнаженное запястье к моим губам, и я бы, наверное, поцеловал его, не подумав, если бы не видел раньше, как и другие торговцы парфюмерией делают в точности такой же жест.
Никогда раньше мне не доводилось нюхать ничего даже отдаленно похожего. Я одновременно оказался в Таиланде, во Франции и на судне, направлявшемся в Босфор, – на борту женщины, закутанные среди лета в меха, они обсуждают «Медленную часть» Веберна, поворачиваются ко мне, шепчут: «Noch einmal?» Аромат этот затмил все прочие, которые я знал раньше. В нем присутствовала лаванда, но лаванда развоплощенная, рассеянная, разрозненная – именно поэтому я попросил у продавщицы разрешение еще раз понюхать ее запястье, но она, видимо, уловила подтекст моей просьбы и засомневалась, как сомневался и я, что речь тут об одних лишь духах. Вместо этого она мазнула крышкой по полоске бумаги, которую выхватила из пенальчика, набитого такими же полосками, слегка помахала ею в воздухе, подсушивая, а потом вручила мне с заговорщицким видом – было видно, что ее моей любознательностью не проведешь, она уже догадалась, что в жизни моей и так уже есть как минимум две женщины, которым хочется одного: чтобы эта полоска, которую я принесу вечером домой, через несколько дней превратилась в подарочный флакон. Взгляд ее польстил мне невыразимо.
На третий вечер я пришел снова, потом опять – теперь уже не ради лавки, и не ради снега, и даже не ради призрачного вечернего свечения над Брэттл-стрит, но ради открытия, содержавшегося в этом флаконе, ради женщин в мехах, которые курили сигариллы на борту яхты, глядя, как Геллеспонт тает вдали. Я даже не знал, были ли духи причиной моего там появления, или они уже превратились в предлог, в маску под маской, потому что, даже если на самом деле я приходил к продавщице или к тем женщинам, образ которых вызывало во мне искрение ее глаз, я одновременно ощущал, что за нею маячит силуэт другой женщины, моей матери, в другой парфюмерной маске, притом что я чувствовал, что и она, скорее всего, не более чем маска, за которой скрывается мой отец, в давние-давние уже времена: он стоит перед зеркалом, довольный тем, что он – тот мужчина, которым был, когда смачивал щеки лавандовой водою после бритья. И он, как теперь и все остальные, истончился до полупрозрачной маски, символа любви и счастья, которые я пытался обрести, но уже отчаялся. Точно непостижимый мираж, запах взывал ко мне с другого края пропасти, пересечь которую так трудно, что я подумал: возможно, это и с любовью никак не связано тоже, ибо любовь не может быть источником таких тягот, а значит, наверное, и любовь лишь маска, и если я жажду не любви, то, значит, слив этого водоворота, в котором я вращаюсь, обусловлен лишь мной – и мной только, – но мной, расточившимся в стольких пространствах, на стольких уровнях, что при попытке прикосновения я ускользаю подобно ртути, или скрываюсь подобно лантаноиду, или всплываю наверх, чтобы через миг превратиться в какое-то безнадежно безликое вещество.
Духи оказались настолько дорогими, что унести с собою я смог – предварительно рассыпавшись в новых извинениях, которые, похоже, стали для продавщицы доказательством того, что в моей жизни действительно есть другие женщины, – лишь взвесь на полоске бумаги. Полоску я сохранил как вещь, принадлежавшую человеку, уехавшему на время: он меня не простит, если я не стану нюхать ее ежедневно.
Примерно через неделю, еще раз посмотрев тот же фильм, я выскочил из кинотеатра и зашагал к аптеке – но оказалось, что уже закрыто. Я постоял там несколько минут, вспоминая тот вечер, когда видел здесь мать с сыном, вспомнил ее светлые волосы, убранные под шляпу, глаза, которые, блуждая по залу, поймали мой взгляд, пока она уговаривала мальчика, – она будто уловила во мне одновременно и вожделение, и зависть. Может, она нарочно сделала взгляд подчеркнуто материнским, чтобы пресечь любые попытки вступить в беседу? Может, продавщица перехватила мой взгляд?
И вот я представил себе, как мать с сыном выходят из лавки, на Черч-стрит, мать с трудом раскрывает зонт, и они направляются в сторону Кембридж-Коммон, бредут через пустынное поле, яркие сапожки глубоко увязают в снегу, спины повернуты ко мне навеки. Все это казалось настолько реальным, и исчезали они с такой торопливостью, подстегиваемые ветром, что я едва пресек порыв выкрикнуть единственные известные мне слова:
– Frau Noch Einmal… Frau Noch Einmal…[3 - Госпожа Еще Раз (нем.).]
Я тогда представил себе, что это мои жена с сыном, – я всею душою мечтал о том, что они у меня когда-то появятся. Я возвращаюсь домой с работы, выхожу из автобуса на Гарвардской площади, она в последний момент перед ужином выбежала туда же по делу, купить ему игрушку в аптеке, потому что утром пообещала: «Ну подумаешь, ну избалуем его слегка! Ну надо же – вот так вот столкнуться в снегу, да еще именно сегодня!» Но теперь, с расстояния во много лет, я думаю, что она могла быть моей матерью, а тот мальчик – мной. А может, это, как всегда, просто маска. Я был одновременно и собой, и своим отцом, собой-студентом, вместо библиотеки отправившимся в кино, собой – отцом этого мальчика, причем лучше настоящего: я, наверное, дам ему подольше положенного насладиться детством, а в будущем стану давать ему неопределенные советы касательно грядущего, – и все это напомнило мне о том, что шпаргалки, которые мы тайком проносим с собою сквозь время, написаны симпатическими чернилами.
Тому мальчику из аптеки сейчас тридцать лет – на пять больше, чем было мне, когда я счел себя достаточно взрослым, чтобы назваться его отцом. При этом, если я и сегодня моложе его в его тридцать лет, все равно в тот заснеженный день я был куда старше нас обоих нынешних.
Время от времени я возвращаюсь к этим духам, особенно когда брожу по косметическому отделу на первом этаже очередного большого универмага. Я неизменно прикидываюсь тупицей: «А это что?» – спрашиваю я, изображая мужа-невежду, пытающегося срочно купить жене подарок. Мне рассказывают, меня опрыскивают, мне выдают надушенные полосочки, я их засовываю в карман пальто, вынимаю оттуда, кладу обратно, уношусь мыслями к тем дням, когда мечтал о жизни, которую, кажется, все-таки не прожил.
Возможно, аромат – это самая надежная маска, маска, отделяющая меня от мира, меня от меня, меня другого, теневого меня, за которым я следую, которого распознаю, но признать не могу, ощущая при этом, что эти разговоры про другого меня сами по себе – самая обманчивая маска. С другой стороны, возможно, аромат – это всего лишь метафора для слова «нет», которое я сочетал со всем, что видел, хотя спокойно мог на его место поставить «да» – в разговорах с собой, с отцом, с жизнью, – возможно, потому, что я никогда и ничего в этом мире не любил достаточно сильно и надеялся скрыть этот факт от самого себя, заслонившись мыслью, что лучше мне поискать в другом месте, или потому, что я любил и вожделел каждый из этих ароматов, но все не мог решить, на котором остановиться, а значит, лучшее припрятал до того дня, когда подкатит вторая жизнь. Вот ведь занятно: вожделенными мне кажутся единственные духи – те, которые я так и не купил. Причем именно их все знакомые мне женщины коварно отказывались носить. Соответственно, при мысли о них вспомнить мне некого. Эти духи – символ придуманной жизни, но из них не лепится ни один образ.
Прошлой зимой я вернулся в ту аптеку с девятилетним сыном. Мы обходили окрестности – я теперь так всегда делаю, если возвращаюсь в места, которые слишком прочно вплетены в ткань моей жизни, так, что даже нет смысла задаваться вопросом, любил я их когда-то или нет. Как всегда, прикидываюсь, что выбираю духи для жены. «Как думаешь, эти маме понравятся?» – спрашиваю я у сына, надеясь, что он ответит «нет», он так и отвечает. Я извиняюсь. Мы рассматриваем зубные щетки, мыло, старомодную зубную пасту, вот передо мной даже отцовский лосьон для бритья – таращится едва ли не с укором. Даю сыну его понюхать. Ему нравится. Спрашиваю, узнаёт ли. Узнаёт. Пробуем другой. Он ему тоже нравится. Ловлю себя на надежде, что сын сейчас создает собственные воспоминания.
Ничего не купив, мы открываем стеклянную дверь и выходим. Резкий поворот направо, шагаем через Коммон. Я пытаюсь рассказать сыну, что однажды, почти тридцать лет назад, увидел его здесь мельком. Он на меня смотрит как на сумасшедшего. Или, может, это я себя тут увидел много лет назад, спрашиваю я у него. Он говорит мне взглядом: ну ты и ненормальный. Хочется ему рассказать про фрау Нох Айнмаль, вот только не подобрать слов. Вместо этого говорю: рад, что мы здесь вместе. Он отшучивается. Я отшучиваюсь в ответ.
Тем не менее я все же останавливаюсь немного постоять на том самом месте и вспоминаю, как в тот вечер едва не выкрикнул: «noch einmal», обращаясь к ветру на пустых заснеженных улицах Кембриджа, вспоминаю ту немку и ее счастливчика мужа, как он каждый вечер возвращается с работы. Вот здесь, в двадцать пять лет, я придумал жизнь, которую надеялся прожить. А сейчас, в пятьдесят, на миг вернулся к этой жизни, существовавшей лишь в моем воображении.
Прожил ли я ее? Прожил ли я предначертанную мне жизнь? Которая из них важнее, которая мне лучше помнится: та, которую я придумал, или та, которая воплотилась в реальность? Или я уже сейчас, до срока, забываю их обе, жизнь одну за другой забирает назад те вещи, которые я надеялся сохранить навсегда, одну за другой переворачивает карты рубашкой вверх, чтобы сдать другому его талью?
Ла-Буйадис, июнь 2001 года
Домик, в котором мы гостим неподалеку от Экс-ан-Прованса, окружен зарослями лаванды, которые зыблются и волнуются всякий раз, как над полями пролетает ветер. Завтра последний наш день в Провансе, мы уже перестирали всю одежду и развесили сушиться на солнце. Я знаю, что в следующий раз эту рубашку надену уже на Манхэттене. Знаю и то, что запах солнечного света и лаванды, укрывшийся в складках, вернет меня обратно в этот лучезарный провансальский день.
Десять утра, я стою в саду рядом с плетеной корзиной, куда сложено выстиранное белье. Жена пока не знает, что я решил развесить белье самостоятельно. Пусть ей будет сюрприз. И я уже сварил кофе.