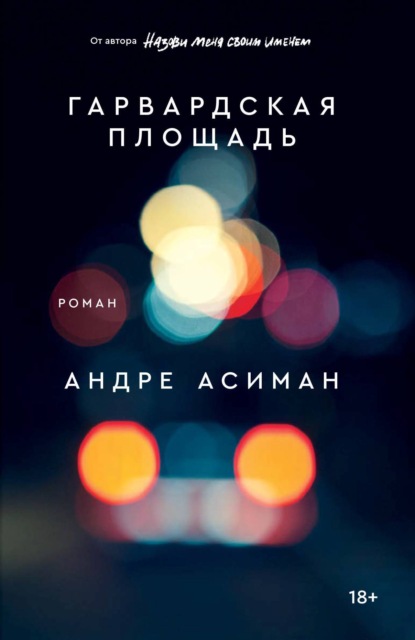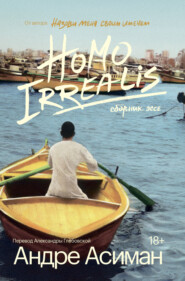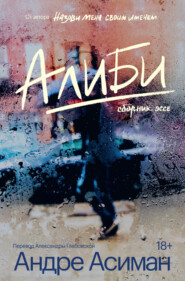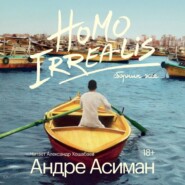По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гарвардская площадь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После чего он начинал изрыгать еще более громогласные возражения: он вам не какой-нибудь долбанутый эрзац-американец, которому вынь да положь его личное пространство. И не слабодушный мямля из разряда «ты занимайся своим делом, я своим, и давайте все жить дружно»: таких в барах и кофейнях на Гарвардской площади пруд пруди. «Я не такой», – повторял он с напором, как будто произнося упрощенный вариант сложного силлогизма, который подцепил много лет назад по ходу краткого курса самоподачи, самовыражения и злословия в каком-нибудь кофеюшнике для работяг на рю Муфтар в Париже, где прозвище твое проставлено у тебя на лбу, на одежде и на пятках. «Все, что я есть, все, что я чувствую, написано у меня на лице. Я – мужик, понял?»
Он был большим мастером на безвкусную экзистенциальную чушь и старомодные клише, которые раздавал, точно бессмысленные листовки, в которых блеска довольно только на то, чтобы воодушевить очередное поколение прожженных вояк с бог ведает какого поля боя: готов на все, чтобы произвести впечатление на женщину, которая в данный момент прислушивается к разговору.
К разговорам его большинство женщин действительно прислушивались. Даже в тот первый день, когда я увидел его в кафе «Алжир», они прислушивались изо всех углов. У меня же ушло много недель на то, чтобы сообразить: все, чем он являлся, что говорил и делал, было направлено на достижение одной цели – возбудить интерес в женщине, в какой – неважно. Это был чистый спектакль, все об этом знали и все ему подыгрывали. Самоподача через представление, спасибо за ваши уроки, кафе «Муфтар». Случалось, для самоподачи хватало одного лишь костюма. А что касается ярости, то она, как и страстность, как и смех, как и самые твердые его убеждения, оставалась в итоге чистым спектаклем.
Иногда.
Иногда, предотвратив едва ли не потасовку между ним и Муму, алжирским завсегдатаем кафе «Алжир», я подсаживался к нему поближе и пытался разрулить ситуацию всякими незамысловатыми фразами вроде: «Он ничего такого не имел в виду». «А я имел в виду все до последнего слова», – отзывался он, возвышая голос, будто чтобы начать препираться и со мною. С ним нужно было проявлять терпение, тут слегка уступил, там слегка урезонил, оставил ему пространство для маневра, чтобы он выпустил пар, потому что пар, газ и дым в нем скапливались в изобилии. Зейнаб, официантка, тоже из Туниса и тоже с тем еще темпераментом, особенно в отношении клиентов, которые скупились на чаевые, или просили слишком часто наполнять им посуду заново, или требовали от скудного местного меню разнообразия за пределами того, что она в состоянии была упомнить, превращалась в саму любезность, когда видела, что он затевает очередную свару с очередным завсегдатаем. «Oui, mon trеsor, oui, mon ange, да, мое сокровище, да, мой ангел», – нашептывала она снова и снова, будто приглаживая загривок ощетинившегося кота, только что увидевшего злую собаку. Когда на него находил такой стих, спорить с ним было бессмысленно, оставалось только увещевать и любезничать. «Я понимаю, что ты чувствуешь, прекрасно понимаю, – твердил я, пока не наступал момент, когда уже можно было воззвать к разуму. – Но с чего ты взял, что он имеет в виду то, что говорит?» – нашептывал я. «Знаю, и точка, оке?» «Окей», которое он произносил так: «Оке», означало: «Спор окончен. Больше ни слова. Врубился?» Я не всегда знал, как его укротить. С помощью своего «оке» он порой пресекал то, что могло закончиться потасовкой между нами. «Почему ты так уверен?» – нашептывал я, пытаясь все-таки донести до него свою мысль и показать, что мы-то с ним точно не станем препираться, а одновременно подталкивая его к тому, чтобы взглянуть на вопрос (как это называют во всем остальном мире) «с другой точки зрения» – понятие ему решительно чуждое. В его мире не было, да и не могло быть другой точки зрения. Если нам не удавалось прийти к консенсусу, он отворачивался и говорил: «Брось ты это дело, я сказал». Молчание. Он уходил заказывать пятую чашку кофе. «Брось. Я. Сказал», – повторял он снова.
Дабы подчеркнуть молчание, которое уронил между нами подобно гире, он тихонько брал стоявшую перед ним пустую чашку, извлекал оттуда ложку – ее он всегда оставлял внутри, пока пил кофе, – и аккуратным, просчитанным движением опускал на блюдечко, как бы расставляя все по ранжиру и привнося порядок в свою жизнь. Тем самым он будто бы говорил: «Я пытаюсь взять себя в руки. Не следовало тебе говорить то, что ты сказал». А через миг опять сыпал смехом и шутками. Значит, в кафе вошла женщина.
В кафе «Алжир» Калаж всегда садился на одно и то же место. За центральный столик – не только чтобы его видели, но и чтобы и самому наблюдать, кто входит, а кто выходит. Ему нравилось внутри, он никогда не устраивался снаружи и, как почти все уроженцы Средиземноморья, предпочитал тень солнцу. «Вот тут у нас Калашников занимает позицию, целится и стреляет», – пояснял Муму, который, как и Калаж, был водителем такси и любил его поддразнивать: алжирцы и тунисцы вообще любят подначивать друг друга, пока эти издевки не опустятся до полномасштабной словесной перепалки – а это происходит неизменно, если один, или другой, или оба взбесятся. «Он либо сидит здесь со своим “калашом” между ног и выжидает, пока ты сделаешь неверное движение, и тогда он тебя выкурит, выдворит, а потом, когда ты этого уж вовсе не ждешь, заморочит до полусмерти жалобами на своих женщин, свою визу, свои зубы, свою астму, свою монашескую келью на Арлингтон-стрит, где квартирная хозяйка не позволяет ему приводить женщин наверх, потому что они у него кричат, – я что-то пропустил? “Калашников” с безотказным ночным прицелом. Скажи, куда стрелять, – и он выстрелит». Скандалы между ними разгорались легендарные, эпические, оперные. «У меня глаза как у рыси, память как у слона, чутье как у волка…» – «…и мозги как у тапира», – присовокупляла его алжирская Немезида. «Ты же, напротив, – рявкал в ответ Калаж, – невзрачный и кусачий как скорпион, вот только ты бесхвостый скорпион, нет у тебя ядовитого хвоста: колчан без стрел, скрипка без струн – продолжать или ты усек общую идею?» – этими словами он намекал на всем известную неспособность алжирца добиться эрекции. «Этот скорпион, по крайней мере, способен кого угодно вознести на вершину горы – можешь сам поспрашивать, – а с тобой им только и светит, что перевалить через какую кротовину, взвизгнуть для приличия, чтобы смутить мирный сон квартирной хозяйки, – и по второму разу на то же самое не напрашиваться. Если хочешь, могу продолжить…» – в этих словах алжирца содержался весьма прозрачный намек на брак Калажа, который развалился за пару недель. «Верно, однако в эти несколько мгновений подъема на крошечную кротовину я проделываю вещи, которые ты, вспомни-ка, ни разу не проделывал лет с двенадцати, несмотря на все эти лошадиные пилюли, которые, как я слышал, ты принимаешь четырежды в день, вот только помогают они тебе разве что от натоптышей и никак не влияют на этот самый отросточек, который благой Господь даровал тебе, а ты так и не придумал, что с ним делать, кроме как пихать себе в ухо». «Всем молчать! – прерывал его алжирец, если в кафе было относительно пусто ранним утром и их свара не мешала посетителям. – Месье Калашников затеял хулить мое мужское достоинство – возразите ему, если посмеете, но не забудьте прежде надеть пуленепробиваемый жилет». «А, наш арабский комедиант вылез из своей волшебной лампы пердушницей поперед», – парировал Калаж, опуская на стол вчерашнюю «Монд», которую ежедневно забирал бесплатно из торговавшего иностранными газетами киоска на Гарвардской площади, потому что она была суточной давности и никому уже не требовалась.
Порой, дабы смирить надвигающуюся бурю, владелец заведения, палестинец, ставил альбом арабских песен, как правило – Умм Кульсум. Хватало нескольких секунд, чтобы битва умов стихла и все четыре угла притихшего кафе «Алжир» заполнил заунывный голос арабской дивы. «Поставь погромче, погромче, в этом божественная любовь», – требовал Калаж. Звучала всегда одна и та же песня: «Энта омри», ты моя жизнь. Если в то утро Калаж завтракал с женщиной, он прерывал беседу и слово в слово переводил ей текст на свой кондовый английский: «Твои глаза привели меня обратно в наши давно ушедшие дни, – указывая на свои глаза, потом на ее глаза. – И научили меня жалеть о прошлом и о его ранах», – широко поводя ладонью, он изображал стремительный и мучительный бег времени.
Если мы сходились за кофе с круассаном, он переводил текст и для меня, слово в слово, хотя детство мое прошло в Египте и арабских слов я помнил достаточно, чтобы уловить общий смысл. Если он сидел один и ставили эту песню, он замирал, держа чашку за бортик на весу, и будто под воздействием чар вслух повторял за дивой слова, а потом переводил их самому себе на французский.
После этакой интерлюдии порой непросто оказывалось покинуть наше воображаемое средиземноморское кафе на побережье и возвратиться в Гарвард, располагавшийся по другую сторону улицы. В такие знойные утра, когда солнце слепило глаза, казалось, что он на расстоянии множества световых лет и созвездий.
Я все еще помню утренний запах щелока и хлорки, которыми Зейнаб протирала полы в кафе «Алжир», водрузив перевернутые стулья на крошечные столики. В принципе, кафе было закрыто, но некоторых – завсегдатаев, знавших арабский и французский, – все-таки пускали и позволяли ждать, пока заварится кофе. Один взгляд на плакат с Типазой – и тело начинало ныть, мечтая о морской воде и пляжных затеях, про которые ты раньше и помыслить не мог, что они забудутся. Из кафе «Алжир» я уносился обратно в Александрию, как вот Калаж уносился в Тунис, а алжирец – в Оран. По большому счету, каждый из нас ежедневно заходил в кафе «Алжир», чтобы забрать оттуда человека, которого оставил в Северной Африке, каждый пробирался назад к той точке, где жизнь, видимо, свернула не туда, каждый укладывал время в лубок, чтобы переломы, трещины и смещения заврачевались и кость наконец-то срослась. Укрывшись от утреннего солнца, окутанные крепким запахом кофе и дезинфицирующих жидкостей, все мы отыскивали путь назад к маме.
Впрочем, утра умели творить еще и волшебство второго порядка, потому что напоминали нам всем троим о Париже, срединной точке на пути домой, о французских кафе, так близко нам знакомых на рассвете, когда официанты спешат подготовить зал к рабочему дню, обмениваются любезностями с дворником, продавцом газет, разносчиками, булочником по соседству, и все забегают быстренько выпить кофе по пути на работу. Калаж завел тогда привычку очень ранним утром пить кофе в одном из кафе на улице Муфтар. Забежать, поздороваться с завсегдатаями, поговорить, пальнуть, кольнуть, начать утро с того, чем закончил вечером.
В кафе «Алжир» он по утрам почти всегда приходил первым. Подобно Че Геваре, являлся в берете: остроконечная бородка, висячие усы, самоуверенный вид человека, который только что разложил динамитные шашки по всему Кембриджу, и теперь ему не терпится поджечь фитиль, вот только после кофе с круассаном. По утрам он не бывал разговорчив. Кафе «Алжир» было его первой остановкой, точкой перехода, где он заглядывал в мир, который знал с самого рождения; оттуда он, выпив кофе, выбирался наружу и каждый раз заново учился осмыслять этот непонятный Новый Свет, куда его почему-то занесло. Иногда, еще даже не сняв куртки, он заходил за крошечную стойку, брал блюдце и помещал на него один из свежих, только что доставленных круассанов. Поднимал глаза на Зейнаб, демонстрировал ей круассан на блюдце и кивал, имея в виду: «Я за это заплачу, вот только попробуй не поставить мне в счет». Она в ответ кивала, в том смысле, что: «Видела, поняла, я б с удовольствием, но босс нынче на месте, так что никаких поблажек». Несколькими отрывистыми наклонами головы он сообщал: «Я никогда и не просил поблажек, ни сейчас, ни вообще когда-либо, так что не изображай из себя, знаю я, что босс твой на месте». Она передергивала плечами: «А то меня волнует, что ты там думаешь». Еще один вопросительный кивок со стороны Калажа: «Кофе когда поспеет?» Еще одно пожатие плечами, означающее: «У меня, чтоб ты знал, всего две руки». Его ответный взгляд явно был рассчитан на то, чтобы ее смягчить: «Знаю я, что ты работаешь не покладая рук. Я и сам такой». Пожатие плечами. «Утро не задалось?» – «Совсем не задалось». Для них – в самой что ни на есть обычной ближневосточной манере – ни одно утро никогда не задавалось.
Когда около полудня Калаж возвращался в кафе «Алжир», то возвращался другим человеком. Он снова был в родной среде, заряжен под пробочку и готов открывать огонь – здесь его база, а ночь еще впереди.
Впоследствии я узнал, что у Калажа есть особый дар: способность к круговому обзору. Он всегда знал, что кто-то на него смотрит, или подслушивает, или – как вот я в тот первый раз – попросту недоумевает. Он сидел на своем месте в самом центре – его алжирская Немезида именовала этот столик еtat major, генеральный штаб, – и мгновенно распознавал всех по звуку шагов. Если, услышав ваши шаги, он не поворачивался поздороваться, значит, не хотел раскрывать, что знает о вашем присутствии. Или был слишком занят разговором с кем-то еще. Или видеть вас больше не желал во веки веков. Оценить ситуацию он умел за долю секунды. Входил в переполненный бар и через пару мгновений объявлял: «Пошли отсюда». «Почему?» – удивлялся я. «Тут женщин нет». «А вон те две, там сидят?» – поправлял его я, указывая на двух красоток, которых он явно не приметил. «Та, что в черном, больная на голову». «Ты как это понял?» «Так и понял, что просто знаю», – повторял он, а голос так и щетинился от нетерпения, раздражения, сарказма. «Я всегда понимаю – оке? Так. Все. Пошли».
Или, не поворачиваясь к двери, он вдруг говорил: «Пока не смотри, но к нам кто-то идет». Когда он успел заметить вошедшего? Как заметил? И как овладевают этаким мастерством? «Сейчас купит мне кофе, потом пирожное, а потом привяжется». Разумеется, услышав от него «не смотри», я немедленно поворачивал голову – кто же это там. «Ты что, не слышал, как я сказал: “Пока не смотри”?» «Да, я слышал, как ты сказал: “Пока не смотри”». «Чего ж тогда смотришь?» Мне только и оставалось, что извиниться, пояснить, что до меня медленно доходит. «Вот прямо настолько медленно?»
Порой являлись женщины, от которых он хотел уклониться. Объятие от всей души, если ему не удалось вовремя сбежать, представления от всей души, чмок-чмок и еще раз чмок-чмок, а потом он сразу же поворачивался ко мне: «Он здесь?» «Кто здесь?» – уточнял я простодушно. «Юрист по эмиграционным вопросам, с которым мы договорились встретиться», – шипел он, навесив на лицо улыбку-стилет, готовый накромсать меня на куски за полное отсутствие мужской солидарности. Сообразить мне удавалось не сразу. «Нет, – ответствовал я, – он сказал, что ждет нас в кафе напротив». «Ждет в кафе напротив, ждет в кафе напротив, – бормотал он себе под нос, пока мы оба торопливо покидали «Алжир». – Тебе сколько времени нужно на то, чтобы сочинить какую-нибудь чушь вроде “ждет в кафе напротив”?» «Почему же чушь?» – возражал я, прекрасно зная, что это чушь полная. «Да потому что она запросто могла за нами увязаться!» Я никогда еще не чувствовал себя такой бездарью и профаном в житейских делах. Этакая вошь, увязавшаяся за титаном.
В один прекрасный день я вошел в кафе «Алжир» и увидел, что за моим обычным угловым столиком сидит девушка и читает книгу. Соседний с ней столик оказался свободным. Я подошел к свободному столику, положил на него свою книгу, сел. Она читала Мелвилла. Я перечитывал Спенсера. Когда она наконец подняла голову, я перехватил ее взгляд и поинтересовался, до какого места в «Моби Дике» она добралась. Она сказала. Я скорчил рожу. Она улыбнулась. Посмотрела на мою книгу и сообщила, что Спенсера изучала в прошлом году. Мы оба читаем книги на совершенно невозможном английском языке, заметил я. «Главное – привыкнуть», – ответила она. Беседа продолжилась. Про преподавателей, про наши книги, про другие книги. У нее оказалось много любимых писателей. Я сомневался, что у меня их так уж много. А потом темы начали иссякать, я позволил ей опять погрузиться в чтение и сам взял книгу. Через некоторое время она поднялась, оставила несколько монет на столике и собралась уходить.
– Вам, наверное, стоит перечитать Мелвилла, – заметила она перед уходом.
– Наверное, – согласился я.
Появилось чувство, что я обзавелся врагом.
– Ты, что ли, не понял, что она хотела продолжить разговор? – осведомился Калаж, подходя к моему столику.
А я и не заметил, что он все это время за мной наблюдал. Он спросил, о чем мы говорили.
– То есть говорили про книги. А дальше что?
Я не знал, что предполагается еще какое-то «дальше что».
– Мог бы сказать что-нибудь про нее – или хотя бы сказать что-нибудь про себя. Или про тех, кто сидит рядом. Или про чайную заварку, болван ты этакий. Про что угодно! Мог задавать вопросы. Помогать ей с ответами. Делать предположения. Рассмешить ее. А ты ей вместо этого про то, что не любишь. Да уж, таких, как ты, еще поискать.
– Просто разговор принял такое направление.
– Это ты его туда направил.
– Это я его туда направил.
– Вот именно. Как ты поступишь в следующий раз, когда заговоришь в кафе с женщиной?
Мое молчание все сказало за меня.
– Ты не понимаешь женщин или просто такой неумеха?
Я глянул на него в растерянности.
– Полагаю, и то и другое, – ответил я в итоге.
И мы оба расхохотались.
Он всегда знал, кто где находится, понимал, как что устроено и почему, никому не доверял и постоянно ждал от каждого человека только самого худшего. Он заранее предвидел, кто что может сказать или сделать, просчитывал даже то, в чем ничегошеньки не смыслил, и умел унюхать подвох или халтуру, о существовании которых большинство смертных не подозревали вовсе. В этом, как и во многом другом, он принадлежал к существам иного биологического рода. Еще не изобрели богов, героев и чудовищ, когда он ворвался в мир на пятый день творения, полностью свинченный, готовый к работе. Человечество появилось гораздо, гораздо позже.
Еще у Калажа была исключительная память на лица. Однажды мы с ним шли, и нам встретился один мой знакомый болгарин, и я сказал: «Он славный малый». «Козел вонючий», – отозвался Калаж и тут же поведал, что несколькими неделями раньше он видел, как этот самый тип поругался со своей подружкой и ударил ее по лицу перед одним ночным клубом в центре Бостона. «На самом деле из всех моих здешних знакомых он единственный, кого я действительно боюсь. Он тебя пырнет ножом не моргнув глазом, отымеет, а потом переедет машиной. Зуб даю, что он шпион».
Тогда я Калажу не поверил, но много лет спустя узнал, что этот самый тип, сперва погрузившийся в недра массачусетской системы исполнения наказаний за нападение, изнасилование и побои, всплыл на Юге в образе почтенного аукциониста благодаря усилиям болгарского посольства.
Был у Калажа еще один дар. Помимо памяти на лица, у него была способность видеть их насквозь. «Этот твой дружок такой-то такой-то, не доверяю я ему. Другой твой дружок такой-то тебя терпеть не может». Список был бесконечный. Такой-то такой-то всегда сидит сбоку, чтобы не смотреть тебе в глаза. Такая-то с виду добренькая, но только потому, что боится сказать в лицо, что тебя недолюбливает. А вон тот тип, он вовсе не умник, просто хитрюга. Вовсе она не счастлива, просто часто смеется. Эта не страстная, а суетливая. Этот не мудрый, а озлобленный. Истерический смех ничего не значит – как болтовня в баре, как откровения по телефону, как слова «я тебя люблю» вместо обычного «до свидания». Терпеть он не может людей, которые произносят «я тебя люблю», прежде чем повесить трубку. Сразу ясно, что не любят. Он с недоверием относился к тем, кто в кино с легкостью ударялся в слезы. Такие люди неспособны чувствовать. Такая-то вечно прикидывается, что у нее закружилась голова, но только чтобы уклониться от необходимости сказать правду. Такой-то утверждает, что у него отличное чувство юмора. При этом никогда не смеется. Это все равно что говорить «я возбудился», а у тебя при этом не встал.
Такой-то так, такая-то сяк. Тра-та-та-та, тра-та-та-та.
Сказать мне, зачем Молодому Хемингуэю борода? – осведомился он однажды.
Зачем?
Скрыть, что у него нет подбородка.
Я в курсе, зачем такая-то прикрывает ладонью рот, когда смеется?
Зачем?
Скрыть, что у нее толстые десны.
А знаю я, почему все говорят, что такой-то большая умница?
Потому что все остальные это говорят.
Сказать мне, почему такой-то вечно канючит, что все вокруг страшно дорого?
Потому что у него папаша богатенький, а он не хочет, чтобы его сочли папенькиным сынком.
Он был большим мастером на безвкусную экзистенциальную чушь и старомодные клише, которые раздавал, точно бессмысленные листовки, в которых блеска довольно только на то, чтобы воодушевить очередное поколение прожженных вояк с бог ведает какого поля боя: готов на все, чтобы произвести впечатление на женщину, которая в данный момент прислушивается к разговору.
К разговорам его большинство женщин действительно прислушивались. Даже в тот первый день, когда я увидел его в кафе «Алжир», они прислушивались изо всех углов. У меня же ушло много недель на то, чтобы сообразить: все, чем он являлся, что говорил и делал, было направлено на достижение одной цели – возбудить интерес в женщине, в какой – неважно. Это был чистый спектакль, все об этом знали и все ему подыгрывали. Самоподача через представление, спасибо за ваши уроки, кафе «Муфтар». Случалось, для самоподачи хватало одного лишь костюма. А что касается ярости, то она, как и страстность, как и смех, как и самые твердые его убеждения, оставалась в итоге чистым спектаклем.
Иногда.
Иногда, предотвратив едва ли не потасовку между ним и Муму, алжирским завсегдатаем кафе «Алжир», я подсаживался к нему поближе и пытался разрулить ситуацию всякими незамысловатыми фразами вроде: «Он ничего такого не имел в виду». «А я имел в виду все до последнего слова», – отзывался он, возвышая голос, будто чтобы начать препираться и со мною. С ним нужно было проявлять терпение, тут слегка уступил, там слегка урезонил, оставил ему пространство для маневра, чтобы он выпустил пар, потому что пар, газ и дым в нем скапливались в изобилии. Зейнаб, официантка, тоже из Туниса и тоже с тем еще темпераментом, особенно в отношении клиентов, которые скупились на чаевые, или просили слишком часто наполнять им посуду заново, или требовали от скудного местного меню разнообразия за пределами того, что она в состоянии была упомнить, превращалась в саму любезность, когда видела, что он затевает очередную свару с очередным завсегдатаем. «Oui, mon trеsor, oui, mon ange, да, мое сокровище, да, мой ангел», – нашептывала она снова и снова, будто приглаживая загривок ощетинившегося кота, только что увидевшего злую собаку. Когда на него находил такой стих, спорить с ним было бессмысленно, оставалось только увещевать и любезничать. «Я понимаю, что ты чувствуешь, прекрасно понимаю, – твердил я, пока не наступал момент, когда уже можно было воззвать к разуму. – Но с чего ты взял, что он имеет в виду то, что говорит?» – нашептывал я. «Знаю, и точка, оке?» «Окей», которое он произносил так: «Оке», означало: «Спор окончен. Больше ни слова. Врубился?» Я не всегда знал, как его укротить. С помощью своего «оке» он порой пресекал то, что могло закончиться потасовкой между нами. «Почему ты так уверен?» – нашептывал я, пытаясь все-таки донести до него свою мысль и показать, что мы-то с ним точно не станем препираться, а одновременно подталкивая его к тому, чтобы взглянуть на вопрос (как это называют во всем остальном мире) «с другой точки зрения» – понятие ему решительно чуждое. В его мире не было, да и не могло быть другой точки зрения. Если нам не удавалось прийти к консенсусу, он отворачивался и говорил: «Брось ты это дело, я сказал». Молчание. Он уходил заказывать пятую чашку кофе. «Брось. Я. Сказал», – повторял он снова.
Дабы подчеркнуть молчание, которое уронил между нами подобно гире, он тихонько брал стоявшую перед ним пустую чашку, извлекал оттуда ложку – ее он всегда оставлял внутри, пока пил кофе, – и аккуратным, просчитанным движением опускал на блюдечко, как бы расставляя все по ранжиру и привнося порядок в свою жизнь. Тем самым он будто бы говорил: «Я пытаюсь взять себя в руки. Не следовало тебе говорить то, что ты сказал». А через миг опять сыпал смехом и шутками. Значит, в кафе вошла женщина.
В кафе «Алжир» Калаж всегда садился на одно и то же место. За центральный столик – не только чтобы его видели, но и чтобы и самому наблюдать, кто входит, а кто выходит. Ему нравилось внутри, он никогда не устраивался снаружи и, как почти все уроженцы Средиземноморья, предпочитал тень солнцу. «Вот тут у нас Калашников занимает позицию, целится и стреляет», – пояснял Муму, который, как и Калаж, был водителем такси и любил его поддразнивать: алжирцы и тунисцы вообще любят подначивать друг друга, пока эти издевки не опустятся до полномасштабной словесной перепалки – а это происходит неизменно, если один, или другой, или оба взбесятся. «Он либо сидит здесь со своим “калашом” между ног и выжидает, пока ты сделаешь неверное движение, и тогда он тебя выкурит, выдворит, а потом, когда ты этого уж вовсе не ждешь, заморочит до полусмерти жалобами на своих женщин, свою визу, свои зубы, свою астму, свою монашескую келью на Арлингтон-стрит, где квартирная хозяйка не позволяет ему приводить женщин наверх, потому что они у него кричат, – я что-то пропустил? “Калашников” с безотказным ночным прицелом. Скажи, куда стрелять, – и он выстрелит». Скандалы между ними разгорались легендарные, эпические, оперные. «У меня глаза как у рыси, память как у слона, чутье как у волка…» – «…и мозги как у тапира», – присовокупляла его алжирская Немезида. «Ты же, напротив, – рявкал в ответ Калаж, – невзрачный и кусачий как скорпион, вот только ты бесхвостый скорпион, нет у тебя ядовитого хвоста: колчан без стрел, скрипка без струн – продолжать или ты усек общую идею?» – этими словами он намекал на всем известную неспособность алжирца добиться эрекции. «Этот скорпион, по крайней мере, способен кого угодно вознести на вершину горы – можешь сам поспрашивать, – а с тобой им только и светит, что перевалить через какую кротовину, взвизгнуть для приличия, чтобы смутить мирный сон квартирной хозяйки, – и по второму разу на то же самое не напрашиваться. Если хочешь, могу продолжить…» – в этих словах алжирца содержался весьма прозрачный намек на брак Калажа, который развалился за пару недель. «Верно, однако в эти несколько мгновений подъема на крошечную кротовину я проделываю вещи, которые ты, вспомни-ка, ни разу не проделывал лет с двенадцати, несмотря на все эти лошадиные пилюли, которые, как я слышал, ты принимаешь четырежды в день, вот только помогают они тебе разве что от натоптышей и никак не влияют на этот самый отросточек, который благой Господь даровал тебе, а ты так и не придумал, что с ним делать, кроме как пихать себе в ухо». «Всем молчать! – прерывал его алжирец, если в кафе было относительно пусто ранним утром и их свара не мешала посетителям. – Месье Калашников затеял хулить мое мужское достоинство – возразите ему, если посмеете, но не забудьте прежде надеть пуленепробиваемый жилет». «А, наш арабский комедиант вылез из своей волшебной лампы пердушницей поперед», – парировал Калаж, опуская на стол вчерашнюю «Монд», которую ежедневно забирал бесплатно из торговавшего иностранными газетами киоска на Гарвардской площади, потому что она была суточной давности и никому уже не требовалась.
Порой, дабы смирить надвигающуюся бурю, владелец заведения, палестинец, ставил альбом арабских песен, как правило – Умм Кульсум. Хватало нескольких секунд, чтобы битва умов стихла и все четыре угла притихшего кафе «Алжир» заполнил заунывный голос арабской дивы. «Поставь погромче, погромче, в этом божественная любовь», – требовал Калаж. Звучала всегда одна и та же песня: «Энта омри», ты моя жизнь. Если в то утро Калаж завтракал с женщиной, он прерывал беседу и слово в слово переводил ей текст на свой кондовый английский: «Твои глаза привели меня обратно в наши давно ушедшие дни, – указывая на свои глаза, потом на ее глаза. – И научили меня жалеть о прошлом и о его ранах», – широко поводя ладонью, он изображал стремительный и мучительный бег времени.
Если мы сходились за кофе с круассаном, он переводил текст и для меня, слово в слово, хотя детство мое прошло в Египте и арабских слов я помнил достаточно, чтобы уловить общий смысл. Если он сидел один и ставили эту песню, он замирал, держа чашку за бортик на весу, и будто под воздействием чар вслух повторял за дивой слова, а потом переводил их самому себе на французский.
После этакой интерлюдии порой непросто оказывалось покинуть наше воображаемое средиземноморское кафе на побережье и возвратиться в Гарвард, располагавшийся по другую сторону улицы. В такие знойные утра, когда солнце слепило глаза, казалось, что он на расстоянии множества световых лет и созвездий.
Я все еще помню утренний запах щелока и хлорки, которыми Зейнаб протирала полы в кафе «Алжир», водрузив перевернутые стулья на крошечные столики. В принципе, кафе было закрыто, но некоторых – завсегдатаев, знавших арабский и французский, – все-таки пускали и позволяли ждать, пока заварится кофе. Один взгляд на плакат с Типазой – и тело начинало ныть, мечтая о морской воде и пляжных затеях, про которые ты раньше и помыслить не мог, что они забудутся. Из кафе «Алжир» я уносился обратно в Александрию, как вот Калаж уносился в Тунис, а алжирец – в Оран. По большому счету, каждый из нас ежедневно заходил в кафе «Алжир», чтобы забрать оттуда человека, которого оставил в Северной Африке, каждый пробирался назад к той точке, где жизнь, видимо, свернула не туда, каждый укладывал время в лубок, чтобы переломы, трещины и смещения заврачевались и кость наконец-то срослась. Укрывшись от утреннего солнца, окутанные крепким запахом кофе и дезинфицирующих жидкостей, все мы отыскивали путь назад к маме.
Впрочем, утра умели творить еще и волшебство второго порядка, потому что напоминали нам всем троим о Париже, срединной точке на пути домой, о французских кафе, так близко нам знакомых на рассвете, когда официанты спешат подготовить зал к рабочему дню, обмениваются любезностями с дворником, продавцом газет, разносчиками, булочником по соседству, и все забегают быстренько выпить кофе по пути на работу. Калаж завел тогда привычку очень ранним утром пить кофе в одном из кафе на улице Муфтар. Забежать, поздороваться с завсегдатаями, поговорить, пальнуть, кольнуть, начать утро с того, чем закончил вечером.
В кафе «Алжир» он по утрам почти всегда приходил первым. Подобно Че Геваре, являлся в берете: остроконечная бородка, висячие усы, самоуверенный вид человека, который только что разложил динамитные шашки по всему Кембриджу, и теперь ему не терпится поджечь фитиль, вот только после кофе с круассаном. По утрам он не бывал разговорчив. Кафе «Алжир» было его первой остановкой, точкой перехода, где он заглядывал в мир, который знал с самого рождения; оттуда он, выпив кофе, выбирался наружу и каждый раз заново учился осмыслять этот непонятный Новый Свет, куда его почему-то занесло. Иногда, еще даже не сняв куртки, он заходил за крошечную стойку, брал блюдце и помещал на него один из свежих, только что доставленных круассанов. Поднимал глаза на Зейнаб, демонстрировал ей круассан на блюдце и кивал, имея в виду: «Я за это заплачу, вот только попробуй не поставить мне в счет». Она в ответ кивала, в том смысле, что: «Видела, поняла, я б с удовольствием, но босс нынче на месте, так что никаких поблажек». Несколькими отрывистыми наклонами головы он сообщал: «Я никогда и не просил поблажек, ни сейчас, ни вообще когда-либо, так что не изображай из себя, знаю я, что босс твой на месте». Она передергивала плечами: «А то меня волнует, что ты там думаешь». Еще один вопросительный кивок со стороны Калажа: «Кофе когда поспеет?» Еще одно пожатие плечами, означающее: «У меня, чтоб ты знал, всего две руки». Его ответный взгляд явно был рассчитан на то, чтобы ее смягчить: «Знаю я, что ты работаешь не покладая рук. Я и сам такой». Пожатие плечами. «Утро не задалось?» – «Совсем не задалось». Для них – в самой что ни на есть обычной ближневосточной манере – ни одно утро никогда не задавалось.
Когда около полудня Калаж возвращался в кафе «Алжир», то возвращался другим человеком. Он снова был в родной среде, заряжен под пробочку и готов открывать огонь – здесь его база, а ночь еще впереди.
Впоследствии я узнал, что у Калажа есть особый дар: способность к круговому обзору. Он всегда знал, что кто-то на него смотрит, или подслушивает, или – как вот я в тот первый раз – попросту недоумевает. Он сидел на своем месте в самом центре – его алжирская Немезида именовала этот столик еtat major, генеральный штаб, – и мгновенно распознавал всех по звуку шагов. Если, услышав ваши шаги, он не поворачивался поздороваться, значит, не хотел раскрывать, что знает о вашем присутствии. Или был слишком занят разговором с кем-то еще. Или видеть вас больше не желал во веки веков. Оценить ситуацию он умел за долю секунды. Входил в переполненный бар и через пару мгновений объявлял: «Пошли отсюда». «Почему?» – удивлялся я. «Тут женщин нет». «А вон те две, там сидят?» – поправлял его я, указывая на двух красоток, которых он явно не приметил. «Та, что в черном, больная на голову». «Ты как это понял?» «Так и понял, что просто знаю», – повторял он, а голос так и щетинился от нетерпения, раздражения, сарказма. «Я всегда понимаю – оке? Так. Все. Пошли».
Или, не поворачиваясь к двери, он вдруг говорил: «Пока не смотри, но к нам кто-то идет». Когда он успел заметить вошедшего? Как заметил? И как овладевают этаким мастерством? «Сейчас купит мне кофе, потом пирожное, а потом привяжется». Разумеется, услышав от него «не смотри», я немедленно поворачивал голову – кто же это там. «Ты что, не слышал, как я сказал: “Пока не смотри”?» «Да, я слышал, как ты сказал: “Пока не смотри”». «Чего ж тогда смотришь?» Мне только и оставалось, что извиниться, пояснить, что до меня медленно доходит. «Вот прямо настолько медленно?»
Порой являлись женщины, от которых он хотел уклониться. Объятие от всей души, если ему не удалось вовремя сбежать, представления от всей души, чмок-чмок и еще раз чмок-чмок, а потом он сразу же поворачивался ко мне: «Он здесь?» «Кто здесь?» – уточнял я простодушно. «Юрист по эмиграционным вопросам, с которым мы договорились встретиться», – шипел он, навесив на лицо улыбку-стилет, готовый накромсать меня на куски за полное отсутствие мужской солидарности. Сообразить мне удавалось не сразу. «Нет, – ответствовал я, – он сказал, что ждет нас в кафе напротив». «Ждет в кафе напротив, ждет в кафе напротив, – бормотал он себе под нос, пока мы оба торопливо покидали «Алжир». – Тебе сколько времени нужно на то, чтобы сочинить какую-нибудь чушь вроде “ждет в кафе напротив”?» «Почему же чушь?» – возражал я, прекрасно зная, что это чушь полная. «Да потому что она запросто могла за нами увязаться!» Я никогда еще не чувствовал себя такой бездарью и профаном в житейских делах. Этакая вошь, увязавшаяся за титаном.
В один прекрасный день я вошел в кафе «Алжир» и увидел, что за моим обычным угловым столиком сидит девушка и читает книгу. Соседний с ней столик оказался свободным. Я подошел к свободному столику, положил на него свою книгу, сел. Она читала Мелвилла. Я перечитывал Спенсера. Когда она наконец подняла голову, я перехватил ее взгляд и поинтересовался, до какого места в «Моби Дике» она добралась. Она сказала. Я скорчил рожу. Она улыбнулась. Посмотрела на мою книгу и сообщила, что Спенсера изучала в прошлом году. Мы оба читаем книги на совершенно невозможном английском языке, заметил я. «Главное – привыкнуть», – ответила она. Беседа продолжилась. Про преподавателей, про наши книги, про другие книги. У нее оказалось много любимых писателей. Я сомневался, что у меня их так уж много. А потом темы начали иссякать, я позволил ей опять погрузиться в чтение и сам взял книгу. Через некоторое время она поднялась, оставила несколько монет на столике и собралась уходить.
– Вам, наверное, стоит перечитать Мелвилла, – заметила она перед уходом.
– Наверное, – согласился я.
Появилось чувство, что я обзавелся врагом.
– Ты, что ли, не понял, что она хотела продолжить разговор? – осведомился Калаж, подходя к моему столику.
А я и не заметил, что он все это время за мной наблюдал. Он спросил, о чем мы говорили.
– То есть говорили про книги. А дальше что?
Я не знал, что предполагается еще какое-то «дальше что».
– Мог бы сказать что-нибудь про нее – или хотя бы сказать что-нибудь про себя. Или про тех, кто сидит рядом. Или про чайную заварку, болван ты этакий. Про что угодно! Мог задавать вопросы. Помогать ей с ответами. Делать предположения. Рассмешить ее. А ты ей вместо этого про то, что не любишь. Да уж, таких, как ты, еще поискать.
– Просто разговор принял такое направление.
– Это ты его туда направил.
– Это я его туда направил.
– Вот именно. Как ты поступишь в следующий раз, когда заговоришь в кафе с женщиной?
Мое молчание все сказало за меня.
– Ты не понимаешь женщин или просто такой неумеха?
Я глянул на него в растерянности.
– Полагаю, и то и другое, – ответил я в итоге.
И мы оба расхохотались.
Он всегда знал, кто где находится, понимал, как что устроено и почему, никому не доверял и постоянно ждал от каждого человека только самого худшего. Он заранее предвидел, кто что может сказать или сделать, просчитывал даже то, в чем ничегошеньки не смыслил, и умел унюхать подвох или халтуру, о существовании которых большинство смертных не подозревали вовсе. В этом, как и во многом другом, он принадлежал к существам иного биологического рода. Еще не изобрели богов, героев и чудовищ, когда он ворвался в мир на пятый день творения, полностью свинченный, готовый к работе. Человечество появилось гораздо, гораздо позже.
Еще у Калажа была исключительная память на лица. Однажды мы с ним шли, и нам встретился один мой знакомый болгарин, и я сказал: «Он славный малый». «Козел вонючий», – отозвался Калаж и тут же поведал, что несколькими неделями раньше он видел, как этот самый тип поругался со своей подружкой и ударил ее по лицу перед одним ночным клубом в центре Бостона. «На самом деле из всех моих здешних знакомых он единственный, кого я действительно боюсь. Он тебя пырнет ножом не моргнув глазом, отымеет, а потом переедет машиной. Зуб даю, что он шпион».
Тогда я Калажу не поверил, но много лет спустя узнал, что этот самый тип, сперва погрузившийся в недра массачусетской системы исполнения наказаний за нападение, изнасилование и побои, всплыл на Юге в образе почтенного аукциониста благодаря усилиям болгарского посольства.
Был у Калажа еще один дар. Помимо памяти на лица, у него была способность видеть их насквозь. «Этот твой дружок такой-то такой-то, не доверяю я ему. Другой твой дружок такой-то тебя терпеть не может». Список был бесконечный. Такой-то такой-то всегда сидит сбоку, чтобы не смотреть тебе в глаза. Такая-то с виду добренькая, но только потому, что боится сказать в лицо, что тебя недолюбливает. А вон тот тип, он вовсе не умник, просто хитрюга. Вовсе она не счастлива, просто часто смеется. Эта не страстная, а суетливая. Этот не мудрый, а озлобленный. Истерический смех ничего не значит – как болтовня в баре, как откровения по телефону, как слова «я тебя люблю» вместо обычного «до свидания». Терпеть он не может людей, которые произносят «я тебя люблю», прежде чем повесить трубку. Сразу ясно, что не любят. Он с недоверием относился к тем, кто в кино с легкостью ударялся в слезы. Такие люди неспособны чувствовать. Такая-то вечно прикидывается, что у нее закружилась голова, но только чтобы уклониться от необходимости сказать правду. Такой-то утверждает, что у него отличное чувство юмора. При этом никогда не смеется. Это все равно что говорить «я возбудился», а у тебя при этом не встал.
Такой-то так, такая-то сяк. Тра-та-та-та, тра-та-та-та.
Сказать мне, зачем Молодому Хемингуэю борода? – осведомился он однажды.
Зачем?
Скрыть, что у него нет подбородка.
Я в курсе, зачем такая-то прикрывает ладонью рот, когда смеется?
Зачем?
Скрыть, что у нее толстые десны.
А знаю я, почему все говорят, что такой-то большая умница?
Потому что все остальные это говорят.
Сказать мне, почему такой-то вечно канючит, что все вокруг страшно дорого?
Потому что у него папаша богатенький, а он не хочет, чтобы его сочли папенькиным сынком.