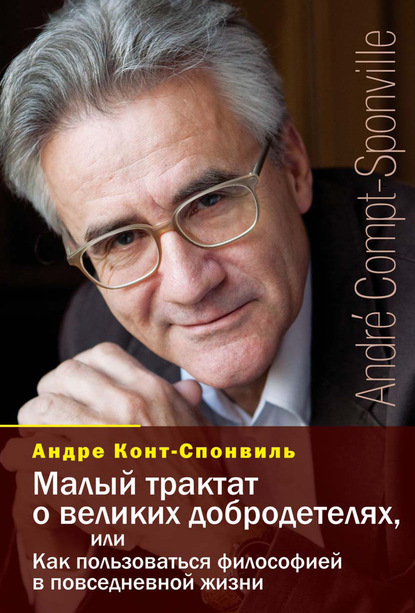По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
Автор
Год написания книги
2001
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Заботы, которые являются памятью о будущем, постоянно напоминают нам о себе. Такова их природа, вернее, такова наша природа. Разве кто-нибудь, исключая мудрецов и безумцев, способен забыть, что у него есть будущее? И кто, исключая негодяев, заботится исключительно о своем собственном будущем? Конечно, все люди эгоисты, но не абсолютные эгоисты, как нам частенько представляется; ведь есть среди нас такие, кто, даже не имея своих детей, заботится о будущих поколениях. И их заботы прекрасны. Или взять курящего человека, который нисколько не волнуется из-за того, что курением наносит себе вред, но переживает из-за озоновой дыры в атмосфере. По отношению к себе он беззаботен, по отношению к другим проявляет заботу. И разве у нас повернется язык его осудить? Мы не склонны забывать о будущем (скорее уж забываем о настоящем!), и нас нисколько не смущает тот факт, что мы ничего о нем не знаем.
Прошлому повезло меньше. Будущее нас тревожит и пугает: его сила заключается в его небытии. Напротив, нам кажется, что прошлого бояться уже не нужно, не нужно ничего от него ждать, и в общем и целом это не такое уж заблуждение. Эпикур, рассуждая о мудрости, говорил, что в бурных волнах времени лишь память служит нам надежным портом. Хотя, если разобраться, еще более надежным было бы забвение! Невротики, если верить Фрейду, мучаются воспоминаниями, но тогда психическое здоровье должно в какой-то степени питаться забвением. «Храни нас Бог забыть, что нужно забывать!» – восклицает поэт. С ним согласен Ницше, имевший свое мнение о том, что такое жизнь и что такое счастье. «Можно жить почти без воспоминаний и жить счастливо, как показывает опыт животных, но жить, не забывая, нельзя» («Несвоевременные мысли»). Что ж, запомним. Но является ли жизнь целью? Является ли целью счастье? Во всяком случае, моя жизнь и мое счастье? Следует ли завидовать животному, растению, камню? Но даже если подобная зависть в нас и возникает, следует ли ей поддаваться? Что тогда останется от нашего ума? Что в нас останется от человека? Разве мы живем только для того, чтобы заботиться о здоровье и гигиене? Это санитарное мышление, могучее и ограниченное. Пусть ум – болезнь, а человечность – несчастье, но это наша болезнь и наше несчастье, и мы не можем быть никем иным. Мы не делаем из прошлого tabula rasa (чистую доску – лат.). Достоинство человека в том, что он мыслит; достоинство мысли – в памяти. «Забывчивая» мысль остается мыслью, но мыслью неумной. «Забывчивое» желание остается желанием, но желанием безвольным, бездушным. Примерами тому могут служить наука и животные – хотя некоторые животные, как говорят, способны к верности, а некоторые науки преодолевают эту ограниченность. Но человек остается существом мыслящим лишь постольку, поскольку обладает памятью, и существом человечным лишь постольку, поскольку способен к верности. Берегись, человек, забыть вспоминать!
Верный ум – это и есть подлинный ум.
Я начал издалека, но лишь потому, что предмет необъятен. Верность – это не просто одна из ценностей, одна из добродетелей. Верность – это нечто такое, благодаря чему и посредством чего возможно существование ценностей и добродетелей вообще. Во что превратилась бы справедливость, если бы не верность ей справедливых людей? Что стало бы с миром, если бы не верность пацифистов? Со свободой, если бы не верность свободолюбивых личностей? И чего стоила бы истина, если бы не верность ей правдолюбцев? Она не перестала бы быть истиной, это верно, но это была бы истина без ценности, не способная стать источником ни одной добродетели. Если не может быть здоровья без забвения, то не может быть и добродетели без верности. Гигиена или мораль. Гигиена и мораль. Ибо речь идет не о том, чтобы вообще ничего не забывать или быть верным чему угодно. Одного здоровья мало, как и одной святости. «Не надо быть идеальным, достаточно быть верным и серьезным» (Янкелевич В. Без срока давности, 1986). Ну вот и добрались. Верность – это добродетель памяти, и сама память есть своего рода добродетель.
Но какая именно память? Память о чем? И на каких условиях? И в каких пределах? Ведь, повторимся, речь идет не о том, чтобы хранить верность чему угодно: это уже будет не верность, а пассеизм, ограниченное упрямство, тупость, рутина, фанатизм. Всякая добродетель противостоит двум крайним проявлениям, напомнил бы нам последователь Аристотеля: одним из них будет непостоянство, вторым – твердолобость. Верность отвергает оба. Если угодно, это золотая середина, но не в смысле половинчатости, этакой тепловатости (быть немножко непостоянным или упертым!). Представление об этой середине скорее дает центр мишени, чем наше парламентское «болото». Или, как я уже говорил, хребет между двумя безднами. Верность не имеет ничего общего ни с непостоянством, ни с упрямством, и в этом она верна себе.
Имеет ли верность ценность сама по себе? Как таковая? Нет, не имеет. Ценность имеет прежде всего объект верности. Мы не можем менять друзей как сорочки, указывает Аристотель («Эвдемова этика»), и было бы так же глупо хранить верность своей одежде, как преступно нарушать верность своим друзьям, за исключением, как оговаривается философ, «чрезмерной извращенности с их стороны» («Никомахова этика»). Верность не может служить оправданием чему угодно: хранить верность дурному хуже, чем отречься от него. Эсэсовцы клялись в верности Гитлеру, и их верность преступному фюреру сама по себе была преступной. Верность злу – плохая верность. А «верность глупости, – отмечает Янкелевич, – это глупость вдвойне» («Трактат о добродетелях», II; «Добродетели и любовь», 1986). Думаю, здесь уместно – верность ученика, хоть и строптивого – пространно процитировать Мэтра:
«Похвальна верность или нет? Когда как. Иначе говоря, это зависит от тех ценностей, которым мы остаемся верны. Верность чему? Никто не скажет, что злость – добродетель, хотя злость остается верна ненависти или гневу; память о перенесенной обиде – тоже плохая верность. Может быть, когда мы говорим о верности, главное в том, каким эпитетом мы ее сопровождаем? А ведь есть еще верность мелочам, превращающаяся в крохоборство, и верность пустякам, оборачивающаяся пустомельством и тупым упрямством. Следовательно, добродетелью, к которой мы стремимся, может быть не всякая верность, а лишь великая верность» (там же, с. 140–142).
Итак: любящая, добродетельная, сознательная верность[2 - Янкелевич В. Без срока давности, 1986, с. 142–143. В верности, отмечает Янкелевич, «стоики признали бы постоянство мудреца».]. Недостаточно лишь вспоминать. Впрочем, можно забывать, не будучи неверным, и быть неверным, ни о чем не забывая. Мало того, неверность предполагает память: нельзя быть верным или неверным тому, о чем не помнишь (страдающий амнезией не может ни держать данного слова, ни нарушить его). Вот почему верность и неверность обе противоположны воспоминанию, только первая добродетельна, а вторая нет. Верность есть «добродетель постоянства», но в вечно меняющемся мире, указывает Янкелевич, и в этом мире постоянны только память и воля. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку; нельзя дважды влюбиться в одну и ту же женщину. А вот что говорит Паскаль: «Он уже не любит эту женщину, которую любил десять лет назад. Еще бы! И она уже не та, что прежде, и он не тот. Он был молод, она тоже; теперь она совсем другая. Ту, прежнюю, он еще, может быть, любил бы» («Мысли», с. 123). Верность – добродетель повторения, благодаря чему повторение и возможно.
Почему я должен выполнять обещание, данное вчера, если сегодня я уже не тот, что накануне? Ради чего? Ради верности. В этом состоит, по Монтеню, истинная основа человеческой личности: «Основа моего существа и моей личности чисто нравственная: она лежит в верности вере, в которой я поклялся сам себе. Я и в самом деле не тот, что был вчера; но я тот же, пока я признаю себя таковым, пока принимаю на свой счет определенное прошлое, называя его своим прошлым, и полагаю в будущем признавать мое сегодняшнее обязательство как данное мною» (Конш М. Монтень и философия, 1987).
Без верности себе нет и не может быть субъекта морали, вот почему верность необходима – без нее не было бы обязанностей! По той же самой причине возможна неверность: поскольку верность есть добродетель памяти, то неверность есть измена памяти (а отнюдь не беспамятство). Одной «историей болезни» всего не объяснишь: хорошая память не всегда служит добру, точные воспоминания не всегда окрашены любовью или уважением. Добродетель памяти больше, чем просто память; верность – больше, чем точность. Верность есть качество, противоположное не забвению, а легкомысленному или корыстному непостоянству, отречению, коварству, измене. Впрочем, верность иногда может выступать и как противоположность забвению (как любая добродетель, противостоящая всему, что не вершина, к которой она стремится, тогда как неверность «катится» от вершины вниз): вначале человек предает то, о чем помнит, а потом забывает о собственном предательстве. Таким образом неверность, торжествуя, самоуничтожается, тогда как верность торжествует – всегда временно, – поскольку отвергает самоуничтожение (вот что я имею в виду: верность не ведает иного торжества, нежели вечная и неустанная битва против забвения и измены). Самозабвенная верность[3 - Добродетели и любовь. Т. 1, с. 154 (по Янкелевичу, это «совершенная верность»).] – это выражение принадлежит Янкелевичу, и я не намерен его оспаривать. Дело в том, что «нет и не может быть равной борьбы между вязким болотом забвения, в конце концов засасывающего в себя все без исключения, и отчаянными, но вновь и вновь повторяющимися попытками памяти ему противостоять. Советуя нам поскорее забыть о нанесенных обидах, проповедники всепрощения обращают свой совет в пустоту: тот, кто спешит забыть, забудет и так, без посторонней помощи. Но есть прошлое, которое ждет нашей жалости и благодарности, потому что прошлое, в отличие от настоящего и будущего, не умеет само защищаться» («Без срока давности», с. 60). В том-то и состоит долг памяти: испытывать жалость и благодарность к прошлому. Это тяжкий, суровый, но непреложный долг – хранить верность.
Очевидно, этот долг может иметь разные степени интенсивности. В тексте, из которого взята приведенная выше цитата, Янкелевич рассуждает о нацистских концлагерях и страданиях еврейского народа. Абсолютное страдание – абсолютный долг. Разумеется, мы не обязаны хранить верность того же накала своей первой любви или победителям велосипедных гонок, которыми восхищались в детстве. Верность следует проявлять только по отношению к тому, что стоит того, и проявлять ее, если можно так выразиться, пропорционально ценности того или иного объекта (хотя речь идет о величинах, по сути не поддающихся количественному измерению). Верность страданию, верность бескорыстной отваге, верность любви…
Но позвольте, одерну я сам себя: разве страдание – ценность? Нет, разумеется, нет; взятое само по себе, оно не является ценностью, а если и является, то отрицательной: страдание есть зло, и было бы заблуждением видеть в нем искупление. Но если страдание не является ценностью, то жизнь, исполненная страданий, таковой является, ибо требует или заслуживает любви. Любить того, кто страдает (христианское милосердие, буддистское сострадание, commiseratio последователей Спинозы и т. д.), важнее, чем любить того, кто прекрасен и велик, а ценность есть не что иное, как то, что заслуживает любви. В этом отношении любая верность – и верность той или иной ценности, и верность тому или иному человеку – есть верность любви, возможная лишь благодаря любви. Верность – это верная любовь, которую общепринятое мнение неправильно сводит к любви мужчины и женщины. Всякая верность основана на любви (верность в ненависти – это не верность, а гнев или озлобление), потому-то она и хороша, потому-то она так нам любезна. Итак, верность верности – и разным степеням верности!
Что касается отдельных областей, то их перечислять можно очень долго. Позволю себе коротко остановиться лишь на трех: мышление, мораль, супружество.
В том, что существует верность мысли, сомнений, кажется, нет. Мы не думаем абы что, потому что невозможно мыслить неизвестно о чем. Сама диалектика, столь удобная для софистов, является мыслью лишь до тех пор, пока хранит верность собственным законам, требованиям и даже противоречию, которое она признает и преодолевает. Не следует смешивать, отмечает Сартр, диалектику и мигание мысли. Различить то и другое и помогает верность, что показано в великой «Логике» Гегеля, неизменно верной своему началу и своей невероятной строгости. Более обобщенно можно сказать, что мысль способна вырваться за пределы небытия или пустой болтовни, лишь благодаря усилию, которое и есть мысль, противостоящая забвению, непостоянству моды или корысти, искушениям конъюнктуры или власти. Всякая мысль, замечает Марсель Конш (6), «постоянно рискует потеряться, если мы не будем предпринимать усилий, чтобы ее удержать. Нет мысли без памяти, без борьбы против забвения и опасности забвения» («Философская ориентация», 1990, с. 106). Это означает, что нет мысли без верности: чтобы мыслить, нужно не только вспоминать (это будет сознание, а сознание – еще не мысль), нужно хотеть вспомнить. Верность и есть это желание, точнее сказать, она есть его воплощение в действительности и его добродетель.
Не значит ли это, что желание мыслить всегда будет сводиться к воспоминанию о том, что уже было помыслено? А воля к мысли обернется не просто воспоминанием, но и желанием ничего не менять? И да и нет. Да, потому что желание вспомнить ту или иную мысль будет напрасным, если сама мысль не имеет никакой ценности и является чем-то вроде умственной и концептуальной безделушки. Быть верным своим идеям значит не только вспоминать, что у тебя были эти идеи, но и желать сохранить их (хотеть помнить, что ты не только исповедовал эти идеи, но и продолжаешь их исповедовать). Нет, потому что желание сохранить их любой ценой означало бы отказ подвергнуть их, если придется, испытанию спором, опытом или размышлением: быть верным своим мыслям в ущерб правде значит проявлять неверность мысли как таковой, обрекая себя, пусть даже из лучших побуждений, к софистике. Прежде всего верность правде! Тем самым верность отличается от веры, особенно – от фанатичной веры. Хранить верность мыслям не значит отказываться от пересмотра своих идей (это догматизм), подчинять их чему-то другому (вера) или принимать за абсолют (фанатизм). Это значит отказываться от их пересмотра без серьезных причин и, поскольку мы не можем ежесекундно пересматривать свои идеи, считать истиной (вплоть до нового пересмотра) то, что было ясно и основательно принято нами за таковую. Следовательно, здесь нет места ни догматизму, ни непостоянству. Мы имеем право менять свои взгляды, но лишь тогда, как нас призывает к этому долг. Первым делом – верность правде, затем – верность воспоминанию о правде (хранимой истине). Такова верная мысль, она же – просто мысль.
Когда я утверждаю, что науке нет дела до верности, я хочу быть правильно понятым: речь не идет об отдельных ученых или о современной науке в своем становлении. Естественная наука, если судить по достигнутым ею результатам, живет настоящим и постоянно забывает о своих первых шагах. Философия, напротив, только и делает, что вновь и вновь возвращается к началу пути. Кто из современных физиков перечитывает Ньютона? И разве найдется философ, который не перечитывает Аристотеля? Наука движется вперед и успешно забывает; философия размышляет и помнит. Впрочем, что есть философия как не верность мысли в своем крайнем проявлении?
Теперь поговорим о морали. То, что объединяет ее с верностью, является ее неотъемлемой составной частью. Кант, впрочем, с этим не согласился бы. Верность – это долг, сказал бы он (например, долг верности между друзьями или супругами), но долг не сводится к верности. Перед нами по-прежнему стоит нравственный закон, имеющий вневременной характер, и речь идет не о том, чтобы быть ему верным, но о том, чтобы ему подчиняться. В чем же тут верность? Если в том, чтобы делать то, что предписывает закон, то верность излишня (долг обязателен к исполнению, с верностью или без верности); если в чем-то другом, то верность факультативна (только долг абсолютен). Что касается верности, диктуемой долгом (верность данному слову, супружеская верность и т. д.), то для Канта она – лишь частный случай долга, сводимый к нему. Верность подчиняется нравственному закону, а не нравственный закон – верности.
Согласен, это так, но лишь в том случае, если существует нравственный закон в понимании Канта – универсальный, абсолютный, вневременной, безусловный. Иначе говоря, если существует практический разум, диктующий свою абсолютную волю в любой точке времени и пространства. Но что нам известно о подобном разуме? Какой практический опыт общения с ним мы имеем? И кто способен верить в него сегодня? Кант был бы прав, если бы существовал универсальный и абсолютный нравственный закон как объективная основа морали. Но я такого не знаю. Это доля, навязанная нам нашей эпохой: быть нравственными людьми, не веря в (абсолютную) истину морали. Но тогда во имя чего нам быть добродетельными? Во имя верности! Ради верности верности! Это, если угодно, еврейский дух против немецкого разума, и он один способен спасти нас от варварства.
Какая наивность, возражает Канту Бергсон («Два источника морали и религии»): пытаться построить мораль на культе разума, иначе говоря, на уважении на практике принципа непротиворечия! Великий логик Кавальес («Нравственное и светское воспитание») сказал бы то же самое. Мораль должна быть разумной, с этим никто не спорит, потому что она должна быть универсальной (или хотя бы пригодной к универсальному употреблению). Но для этого не хватит никакого разума: «Сталкиваясь с более или менее сильной тенденцией, принцип непротиворечивости беспомощен, а самые яркие примеры тускнеют. Геометрия еще никого не спасла». И правда, не существует добродетели геометрического порядка. Разве варварство менее логично, чем цивилизованность? Скупость менее последовательна, чем щедрость? Но даже если б это было так, разве это аргумент против варварства или скупости?
Разумеется, никто не призывает отказаться от разума: наш дух этого не пережил бы. Речь идет лишь о том, чтобы не смешивать разум с его верностью правде с моралью, которая верна закону и любви. Разумеется, и тот и другая могут выступать единым фронтом, и именно это я именую духом. Но это не отменяет того факта, что разум и мораль – два разных понятия, несводимые один к другому. Иными словами, мораль относится не к истине, но к ценности: она есть объект не познания (во всяком случае, все, что мы можем узнать о морали, никак не показывает ее ценность), но воли. Она носит не вневременной, но исторический характер. Она не перед нами, но за нами.
Таким образом, если у морали нет и не может быть основания, его роль играет верность. Благодаря верности мы подчиняемся не вневременному характеру универсального нравственного закона, но историчности ценности, присутствию в себе – всегда частному – прошлого, идет ли речь о прошлом человечества вообще (культура, цивилизация, то есть все то, что отделяет нас от варварства) или о нашем частном прошлом или прошлом наших близких («сверх-Я» Фрейда, воспитание, то есть все то, что отделяет нашу мораль от морали других людей). Верность закону, но не божественному, а человеческому, не универсальному, но частному (даже если он применяется и должен применяться универсально), не вневременному, но историческому: верность истории, верность цивилизации и духу Просвещения, верность человеческому в человеке! Мы не должны предавать то, что человечество сделало с собой, то, что оно сделало с каждым из нас.
Выше я упоминал, что мораль начинается с вежливости; она продолжается – меняя свою природу – в верности. Вначале мы делаем то, что принято делать, затем принуждаем себя делать то, что должно делать. Мы начинаем с соблюдения приличий и переходим к добрым поступкам. Сначала – хорошие манеры, затем – добро как таковое. Верность полученной любви, вызывающему восхищение примеру, проявленному доверию, требовательности, терпению, нетерпению, закону и т. д. Любовь матери, закон отца… Я ничего не придумываю и сильно схематизирую, но каждый и сам прекрасно понимает, о чем идет речь. Долг, запрет, угрызения совести, удовлетворение от хорошего поступка, желание поступать правильно, уважение к другому… Все это главным образом зависит от воспитания, как говорит Спиноза («Этика», «Объяснение определения аффектов» 27)», но разве это значит, что следует отказываться от воспитания? Конечно, это всего лишь мораль, а мораль – это еще не все, мораль даже не самое главное (любовь и истина важнее). Но кто, не считая мудреца или святого, способен обойтись без морали?
Верность лежит в основе любой морали, она противоположна «опрокидыванию всяких ценностей», которое низвергло бы и верность. «Мы желаем быть наследниками всякой предшествующей морали, – говорит Ницше, – мы не намерены начинать на пустом месте. Всякое нашей действие есть лишь возмущение морали против ее предыдущей формы» («Воля к власти», III, 498). И это возмущение, и это наследие – тоже суть верность. Но нужно ли восставать? И против кого? Против Сократа? Против Эпиктета? Против Христа и Нового Завета? Против Монтеня? Против Спинозы? Кто на это способен? Кто этого пожелает? Ведь нельзя же не видеть, что все перечисленные фигуры в общем и целом хранят верность одним и тем же ценностям, отказ от которых означал бы отказ от человечности.
«Не разрушать я пришел, но созидать…» Вот слова того, кто верен, и они звучат еще прекрасней, если за ними не стоит вера, и еще настоятельней, если они идут против веры. Верность, но не Богу, а человеку, человеческому духу (то есть человечеству не как биологическому виду, а как культурной ценности). Все варварские государства ХХ века клялись именем будущего (тысячелетний рейх, светлое коммунистическое будущее сталинского образца и т. п.). И никто не убедит меня в том, что моральный отпор им мог быть возможен лишь на пути хранения верности определенному прошлому. Варвар не ведает верности. Даже светлое завтра становится желанным лишь тогда, когда основывается на старинных ценностях, – это поняли Маркс и его последователи. Не существует морали будущего. Любая мораль и любая культура происходят из прошлого. Мораль всегда основана на верности, по-другому не бывает.
А вот супружеская верность – это уже совсем другая история. Существуют верные пары и неверные пары – это факт, но он не затрагивает главного, если под супружеской верностью узко понимать верность телу супруга. Почему надо любить кого-то одного? Почему надо желать кого-то одного? Когда мы говорим о верности своим идеям, мы же не ограничиваем их число одной-единственной (к счастью!); точно так же верность в дружбе вовсе не предполагает, что у нас должен быть только один друг. Верность в указанных областях не обладает исключительностью. Почему же с любовью должно быть по-другому? Ради чего мы должны ограничивать стремление другого человека к наслаждению? Вполне возможно, что такая жизнь удобнее, надежнее, может быть, даже счастливее, во всяком случае пока жива любовь – охотно верю.
Но мне представляется, что ни мораль, ни любовь здесь не главное. Каждый выбирает по себе, к чему прислушиваться – к своей силе или к своим слабостям. Каждый человек, точнее сказать – каждая пара, решает этот вопрос для себя. Истина выше исключительности, и, мне кажется, мы совершаем меньшее предательство по отношению к любви, когда изменяем ради другой любви, чем когда храним верность, основанную на лжи. Другие люди могут думать иначе, да и сам я в иные моменты жизни – тоже. Мне кажется, что суть не в этом. Есть свободные, ничем не связанные пары, которые по-своему хранят друг другу верность (верность своей любви, верность своему слову, верность их общей свободе и т. д.). Есть и другие, верные друг другу суровой и унылой верностью, и каждый из двоих мечтает об измене. Проблема здесь не столько в верности, сколько в ревности, не столько в любви, сколько в страдании. Но эта проблема лежит уже вне рамок нашей темы. Верность – это не сострадание, хотя и то и другое добродетели. Конечно, но разные. Не заставлять другого человека страдать – это одно, не предавать его – совсем другое. Вот последнее мы и зовем верностью.
Главное, разобраться, что превращает двух человек в пару. Разумеется, только сексуальная связь, пусть даже регулярная, для этого недостаточна. Как не достаточно и совместного проживания, даже продолжительного. Супружеская пара, в том смысле, какой я вкладываю в это понятие, объединена любовью, и любовью продолжительной. Следовательно, она хранит верность, потому что любовь может длиться только при том условии, что является продолжением страсти (слишком кратковременной, чтобы успеть образовать пару, но достаточно продолжительной, чтобы ее разрушить) при помощи памяти и воли. Очевидно, таков брак, прекращаемый разводом. Но. Одна моя знакомая, пережившая развод и повторный брак, говорила мне, что в каком-то смысле хранит верность своему первому мужу. «Я хочу сказать, – объясняла она, – тому, что мы вместе пережили, нашей истории, нашей любви… Я бы не хотела вычеркивать все это из жизни». Вот без подобной верности не продержалась бы ни одна пара – без общей истории, без той смеси доверия и благодарности, из-за которой счастливые пары к старости становятся такими трогательными, гораздо более трогательными, чем молодые влюбленные, для которых в большинстве случаев любовь пока еще – мечта. Мне кажется, что подобная верность бесценна и для супружеской пары имеет первостепенное значение. Пусть любовь угаснет или утратит пылкость, что чаще всего и происходит, и жалеть о ней бессмысленно, но, расставаясь или продолжая жить вместе, пара остается парой лишь до тех пор, пока хранит верность любви, полученной и подаренной, разделенной любви, как и памяти – сознательной и благодарной – об этой любви. Верность – это верная любовь, говорил я выше, и то же самое можно сказать о супружеской паре, даже «современной», даже «свободной». Верность – это любовь к тому, что было пережито вдвоем, любовь к любви, иногда – к сегодняшней (и охотно поддерживаемой), иногда – ко вчерашней. Верность – это верная любовь, прежде всего верная любви.
Как я могу поклясться, что буду любить тебя всегда и никогда не полюблю никого другого? Кто может поручиться за свои чувства? И зачем, если любви больше нет, поддерживать ее фикцию, нести на себе ее тяготы, выполнять ее требования? Однако и это – не повод, чтобы отвергать то, что было в прошлом. Разве для того, чтобы любить в настоящем, нам обязательно предавать прошлое? Клянусь тебе – нет, не в том, что буду любить тебя всегда, а в том, что навсегда останусь верен любви, которую мы сейчас переживаем.
Неверная любовь это отнюдь не свободная любовь: это забывчивая любовь, любовь-предательница, любовь, забывшая или возненавидевшая предмет своей любви, а потому погрузившаяся в пучину самозабвения и ненависти к себе самой. Но, полноте, разве это любовь?
Люби меня, пока желаешь, любовь моя, но не забывай о нас.
Благоразумие
Вежливость – основа добродетелей; верность – их принцип; благоразумие – их непременное условие. Является ли благоразумие добродетелью само по себе? Традиция утверждает, что да, является. Но это утверждение нуждается в объяснении.
Благоразумие – одна из четырех основных античных и средневековых добродетелей[4 - Наряду с храбростью (или силой духа), умеренностью и справедливостью. Судя по всему, эта классификация (во французском языке благоразумие иногда именуется мудростью) восходит к VI в. до н. э. Упоминание о ней мы находим, например, у Платона (см. «Государство», IV, и «Законы», I); свой классический вид она приобретает у стоиков (см. Диоген Лаэртский, VII), а впоследствии у христианских мыслителей, в особенности у св. Амвросия, бл. Августина и Фомы Аквинского.] и, не исключено, наиболее прочно забытая. Для современности благоразумие больше относится к психологии, чем к морали, выражая не столько долг, сколько расчет. Уже Кант не считал благоразумие добродетелью: это не более чем просвещенное или ловкое самолюбие, поясняет он, разумеется, ни в коей мере не предосудительное, но не имеющее никакой нравственной ценности и задающее весьма сомнительные правила. Благоразумно заботиться о своем здоровье, но в чем тут заслуга? Благоразумие слишком выгодно, чтобы быть нравственным; долг слишком абсолютен, чтобы быть благоразумным. Впрочем, не факт, что в данном случае Кант выражает наиболее современную точку зрения, тем более – самую справедливую. Ибо именно он делает из сказанного следующий вывод: правдивость является абсолютным долгом, независимо от обстоятельств (даже если к вам в дом врываются убийцы, преследующие вашего друга, и требуют от вас сказать, не у вас ли он прячется, – это пример, приводимый самим Кантом) и независимо от последствий: лучше поступить неблагоразумно, нежели нарушить долг, даже если от этого зависит спасение жизни невинного человека или вашей собственной жизни.
Мне представляется, что сегодня мы уже не можем согласиться с этим выводом; мы не настолько верим в абсолют, чтобы жертвовать ради него своей жизнью и жизнью наших близких. Этика убеждения, как позже выскажется Макс Вебер (7), скорее пугает нас: чего стоит абсолют принципиальности, если ему в угоду приходится приносить простую человечность, здравый смысл, мягкость и сострадание? Кроме того, мы научились с недоверием относиться к морали, особенно если она претендует на статус абсолютной. Этике убеждения мы предпочитаем то, что Макс Вебер называет этикой ответственности, каковая, не отрекаясь от принципов (что для нее было бы невозможно), все же обращает внимание и на предвидимые последствия тех или иных действий. Добрые намерения могут приводить к катастрофам, а чистота помыслов, даже не подлежащая сомнению, еще ни разу не послужила гарантией против ухудшения ситуации.
Следовательно, довольствоваться ими предосудительно: этика ответственности требует от нас не только чистоты помыслов и верности принципам, но и способности предвидеть в меру возможного последствия наших поступков. Это этика благоразумия – единственная действительно стоящая этика. Лучше солгать гестаповцам, чем выдать еврея или участника Сопротивления. Во имя чего? Во имя благоразумия, которым и определяется это «лучше» (для человека и силами человека). Это прикладная мораль – а во что превратится мораль, если ее не к чему приложить? Без благоразумия все прочие добродетели способны на одно – вымостить своими добрыми намерениями дорогу в ад.
Выше я упоминал об античности. Само это слово – благоразумие – настолько обременено многочисленными историческими наслоениями, что не может не вызывать двусмысленных толкований. Кстати, оно практически совсем исчезло из современного этического словаря. Это, однако, не означает, что мы более не нуждаемся в благоразумии. Что же содержит в себе это понятие?
Попробуем приглядеться к благоразумию поближе. Известно, что древние римляне переводили словом prе?dentia греческое phron?sis, используемое в числе прочих Аристотелем и стоиками. Что они имели в виду? Добродетель ума, поясняет Аристотель, в том смысле, в каком она имеет дело с истиной, знанием и разумом. Благоразумие есть предрасположенность, позволяющая выносить верное суждение о том, что хорошо или дурно для человека (верное не само по себе, но в условиях того мира, в котором мы живем; не вообще, но в той или иной конкретной ситуации), и, как следствие, действовать подобающим образом. Эту предрасположенность можно назвать здравым смыслом, поставленным на службу доброй воли. Или просто умом – но умом добродетельным. Вот почему благоразумие обусловливает все прочие добродетели – ни одна из них без благоразумия не будет знать, что нужно делать и как достичь поставленной цели (добра). Св. Фома показал, что из четырех основных добродетелей именно благоразумию принадлежит руководящая роль. Не будь благоразумия, ни умеренность, ни храбрость, ни справедливость не узнают, что и как следует делать; они останутся слепыми или неопределенными добродетелями (справедливый человек будет любить справедливость, но не будет знать, что делать, чтобы поступать по справедливости; храбрец не будет знать, на что применить свою храбрость, и так далее). Равно и благоразумие, без прочих добродетелей, останется пустым звуком либо обернется обыкновенной ловкостью. Для благоразумия характерна своего рода скромность, объяснимая ее инструментализмом: оно служит не своим, а чужим целям, занимаясь исключительно выбором средств[5 - Речь идет именно о средствах, а не о целях: см. «Никомахова этика», III, 5. См. также Фома Аквинский. «Сумма теологии», Ia; IIa – e.]. Но именно поэтому благоразумие незаменимо: без него не способны обойтись ни один поступок и ни одна добродетель, во всяком случае ни одна действенная добродетель. Благоразумие не царствует (справедливость и любовь гораздо лучше), но оно правит. Задумаемся: во что превратится царство без правительства? Недостаточно любить справедливость, чтобы быть справедливым; мало любить мир, чтобы быть пацифистом, – требуется еще здравое размышление, верное решение и правильный поступок. Благоразумие принимает решение – храбрость дает силы его осуществить.
Стоики видели в благоразумии науку о том, что следует и чего не следует делать, с чем решительно не соглашался Аристотель, и был прав, потому что наука основана на обязательности, а благоразумие – на случайности[6 - «Никомахова этика», VI, 5. Современные науки, обращаясь к случайности, например при расчете вероятностей, пытаются и в ней обнаружить закономерность. Однако это (подтверждая правоту Аристотеля) имеет смысл лишь на уровне больших чисел, тогда как выбор и поступок – всегда единичны.]. Благоразумие предполагает неуверенность, риск, случайность, неизвестность. Богу благоразумие не нужно, но может ли человек обойтись без него? Благоразумие – не наука; оно – то, что служит заменителем науки там, где науки нет и быть не может. Раздумывать можно лишь над тем, что подразумевает выбор, иначе говоря, над тем, что не поддается или не достаточно поддается доказательствам: вот когда требуется стремление, и не только к благой цели, но и к ее достижению благими средствами. Недостаточно любить своих детей, чтобы быть хорошим отцом; недостаточно желать своим детям добра, чтобы действовать им во благо. Любовь, сказал бы Колюш (8), не освобождает от необходимости быть умным. Греки хорошо это понимали – может быть, намного лучше нас. Phronе?sis – это нечто вроде практической мудрости: мудрости, направленной на действие, мудрости, проявляющейся в действии. Она не заменяет мудрости как таковой (подлинной мудрости, то есть sophia), потому что для того, чтобы хорошо жить, недостаточно правильно поступать, а для того, чтобы быть счастливым, – недостаточно быть добродетельным. Вот в чем прав Аристотель, не соглашавшийся почти со всеми мыслителями античности: добродетели так же не достаточно для счастья, как и счастья для добродетели. Вместе с тем благоразумие необходимо и для первой, и для второго, и даже мудрость не может обходиться без благоразумия. Мудрость без благоразумия была бы мудростью безумца, а это уже вообще никакая не мудрость.
Возможно, главное сказал Эпикур: благоразумие, которое из всех желаний выбирает путем сравнения и изучения преимуществ и недостатков те, что следует удовлетворить, и определяет, какими средствами это следует делать, более ценно, чем сама философия, ибо из него проистекают все прочие добродетели. Чего стоит истина, если человек не умеет жить? Зачем нужна справедливость, если ты не способен поступать по справедливости? И для чего к ней стремиться, если она ничего не приносит? Благоразумие – своего рода практический навык (а не только видимость, в отличие от вежливости), одновременно являющийся искусством наслаждаться жизнью. Нам случается отказываться от многих удовольствий, учит Эпикур, если они влекут за собой более крупные, нежели само удовольствие, неприятности, либо стремиться к боли, если она позволяет избежать чего-то худшего или достичь более сильного или продолжительного удовольствия. Так, мы идем к зубному врачу или ходим на работу не ради удовольствия, но чаще всего ради отсроченного или непрямого удовольствия, и предвидеть или просчитать это удовольствие позволяет нам благоразумие. Эта добродетель всегда временна, а иногда она становится и добродетелью выжидания. Благоразумие умеет заглядывать в будущее, во всяком случае в той мере, в какой от нас зависит, встречать ли его вызовы лицом к лицу (поэтому оно связано не с надеждой, а с волей). Следовательно, это добродетель, присутствующая в настоящем, но вместе с тем наделенная даром предвидения.
Благоразумный человек внимателен не только к тому, что происходит сегодня, но и к тому, что может произойти завтра: он осмотрителен и осторожен. Слово prudentia, отмечает Цицерон, происходит от глагола providere, который имеет два значения: предвидеть и способствовать. Это добродетель продолжительности, неясного будущего, благоприятного момента (kairos у греков), добродетель терпения и предвидения. Невозможно жить сиюминутным моментом. Реальность диктует нам свои законы, ставит перед нами препоны и заставляет идти к цели кружным путем. Благоразумие – искусство помнить обо всем этом, это разумное и здравомыслящее желание. Романтики, допускаю, скорчат недовольную мину – они предпочитают сладость мечты. Но люди действия отлично понимают, что другого пути попросту не существует, даже если стремишься к чему-то маловероятному или исключительному. Благоразумие – это то, что отделяет действие от импульса, а героя – от сорвиголовы. В сущности, именно это Фрейд называл принципом реальности, во всяком случае именно эта добродетель наиболее полно ему соответствует. Мы хотим наслаждаться как можно больше и страдать как можно меньше, но мы обязаны учитывать диктат реальности с ее неопределенностью, иначе говоря (и здесь мы встречаемся с добродетелью ума, о которой говорит Аристотель), мы должны хотеть, но с умом. У человека благоразумие играет ту же роль, что инстинкт у животных и, если повторить Цицерона, что провидение у богов.
Таким образом, у античных мыслителей благоразумие (phron е?sis, prudentia) выходит далеко за рамки обыкновенного стремления избежать опасностей – к чему постепенно скатывается наше понимание благоразумия. Тем не менее между первым и вторым существует несомненная связь, и второе, по мнению Аристотеля или Эпикура, вытекает из первого. Именно благоразумие определяет, чему следует отдавать предпочтение при выборе и чего следует избегать. Между тем понятие опасности чаще всего связано с этой последней категорией: отсюда современное толкование термина (благоразумие как предосторожность). В то же время существуют ситуации, когда приходится идти на риск, и бывают опасности, которые необходимо встречать лицом к лицу: отсюда его античное толкование (благоразумие как добродетель риска и решительности). Первое не только не упраздняет второе, но и зависит от него. Благоразумие – это не страх и не трусость. Благоразумие без храбрости оборачивается малодушием, равно как и храбрость без благоразумия превращается в безрассудство или безумие.
Отметим, впрочем, что даже в современном, ограниченном толковании благоразумие продолжает служить непременным условием добродетели. Только живой человек может быть добродетельным (про мертвых, в лучшем случае, можно сказать, что они были добродетельными); только тот, кто благоразумен, остается в живых. Полное отсутствие благоразумия равнозначно скорой гибели. И что тогда останется от добродетели? И каким образом она сможет проявиться? В главе, посвященной вежливости, я уже писал о том, что в раннем детстве мы не делаем разницы между тем, что дурно (виной), и тем, что причиняет зло (болью и опасностью). Поэтому мы не отличаем морали от благоразумия, каковые, впрочем, на протяжении достаточно длительного времени зависят от слова и власти родителей. Но вот мы вырастаем (благодаря благоразумию родителей, а затем и своему собственному), и перед нами встает задача отделить одно от другого; на основе отличий друг от друга формируются мораль и благоразумие. Смешивать их было бы ошибкой; противопоставлять одно другому – еще одной ошибкой. Благоразумие советует, отмечает Кант, мораль диктует. Поэтому мы нуждаемся и в том и в другой. Благоразумие может быть добродетелью только в том случае, если оно служит достойной цели (иначе оно будет просто ловкостью), равно как и цель эта не будет полностью добродетельной без гарантии благих средств для ее достижения. Вот почему, подчеркивает Аристотель, нельзя быть хорошим человеком без благоразумия, как нельзя быть и благоразумным без моральной добродетели. Для добродетели одного благоразумия мало (оно относится только к средствам, тогда как добродетель учитывает также и цели), но ни одна добродетель не способна обходиться без благоразумия. Лишенный благоразумия водитель не просто опасен, он достоин и морального осуждения, поскольку наплевательски относится к чужим жизням. И наоборот, разве не очевидно, что безопасный секс, то есть осмотрительность в половом поведении, может представлять собой пример морального отношения (поскольку доказывает, что человек, даже если сам он уже болен, заботится о сохранении здоровья партнера)? Самый свободный секс между взрослыми людьми при условии взаимного согласия не может подвергаться осуждению. Но неосторожность в наше время, когда повсюду свирепствует СПИД, – может и должна. Без предосторожности – это не добродетельный секс или, во всяком случае, такой секс, добродетель которого заметно хромает. Аналогичным образом дело обстоит и во всех других областях жизни.
Отец, который ведет себя по отношению к детям неосторожно, может любить их и желать им добра. Однако его отцовской добродетели и, скорее всего, его отцовской любви явно чего-то не хватает. Случись несчастье, которого можно было бы избежать, он будет знать, что, даже если вина лежит не только на нем, полностью невиновным он считаться не имеет права. Первая заповедь родителей – не навреди. Оберегай своего ребенка. Это и есть благоразумие, без которого любая добродетель бессильна или вредоносна.
Я уже упоминал, что благоразумие не означает отказ от риска или стремление во что бы то ни стало избежать опасностей. Возьмем, к примеру, альпинистов или моряков – благоразумие входит составной частью в их профессии. Какова степень риска? Какие опасности ждут на пути? Насколько они велики? Ради чего стоит рисковать? Всеми этими людьми движет принцип удовольствия – он же желание или любовь. Но каким образом этот принцип может быть удовлетворен? Какими средствами? С какими предосторожностями? Здесь уже в дело вступает принцип реальности, и если он действует во благо, мы называем его благоразумием.
«Благоразумие, – говорит бл. Августин, – это любовь, которая выбирает с прозорливостью». Но что именно она выбирает? Явно не объект, ибо за это отвечает желание. А что же тогда? Средства, необходимые для его достижения и защиты. Такова материнская прозорливость (и прозорливость любовницы), которая есть не что иное, как мудрость безумной любви. Матери (и влюбленные женщины) делают то, что нужно делать, и так, как это нужно делать, во всяком случае в меру своего разумения (любая добродетель ума подразумевает риск ошибки), результатом чего стало появление человечества. Любовь ведет, благоразумие просвещает.
Вот хорошо было бы, если бы благоразумие могло просветить все человечество! Мы уже показали, что благоразумие умеет заглядывать в будущее – забывать о нем опасно и аморально. Благоразумие – своего рода парадоксальная память о будущем или, лучше (поскольку память сама по себе не является добродетелью), парадоксальная и необходимая верность будущему. Это хорошо известно родителям, пекущимся о будущем своих детей не для того, чтобы «прописать» им это будущее, но для того, чтобы обеспечить им право и в силу возможностей предоставить средства, которые позволят им «написать» это будущее самостоятельно. Это верно и для человечества в целом, если мы хотим сохранить права будущих поколений и их шансы на жизнь. Чем больше власти, тем выше ответственность. И наша ответственность высока как никогда, поскольку от нас зависит не только существование нас и наших детей, но, в силу бурного развития науки и техники, и их растущего влияния на нашу жизнь и существование всего человечества на протяжении последующих веков. Например, экология напрямую связана с благоразумием, и в этом она смыкается с моралью. Было бы заблуждением считать благоразумие устаревшим – это самая современная из добродетелей, вернее, та из добродетелей, которая больше всего необходима современности.
Говоря о прикладной морали, я имел в виду два значения этого термина. Во-первых, прикладная мораль есть понятие, обратное абстрактной, теоретической морали; во-вторых, обратное морали попустительства. Последнее понятие внутренне противоречиво, что лишний раз доказывает, насколько важно благоразумие, в том числе для того, чтобы защитить мораль от фанатизма (всегда слишком пылкого, а потому неблагоразумного), а также от самой морали. Разве мало ужасов творилось во имя Добра? Разве мало преступлений было совершено во имя добродетели? Все эти ужасы и преступления почти всегда грешили против терпимости, но чаще всего также и против благоразумия. Не стоит верить всяким савонаролам, ослепленным идеей Добра с большой буквы. Они слишком привержены принципам, чтобы обращать внимание на отдельных людей; они слишком уверены в чистоте своих помыслов, чтобы думать об их последствиях…
Мораль без благоразумия – это пустая или опасная мораль. Caute – призывал Спиноза, что означает: «Не верь». Такова максима благоразумия; не следует слишком доверять и самой морали, когда она перестает уважать свои рамки или перестает сомневаться в чем бы то ни было. Добрая воля не может служить гарантией, а добросовестность – извинением. Одним словом, для добродетели одной морали мало: нужны еще ум и прозорливость. Об этом нам напоминает юмор, и это нам предписывает благоразумие.
Неблагоразумно слушать лишь голос морали. Аморально быть неблагоразумным.
Умеренность