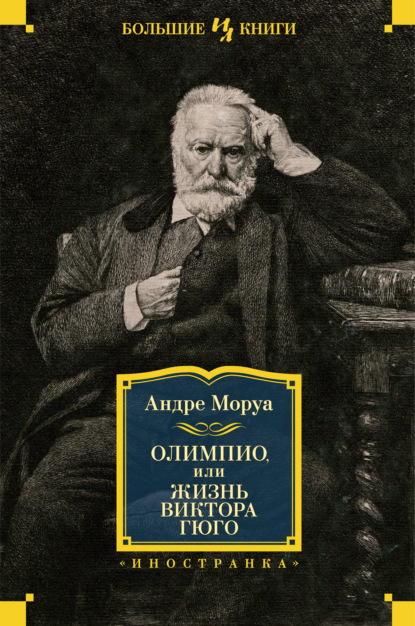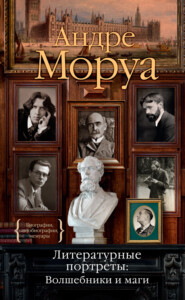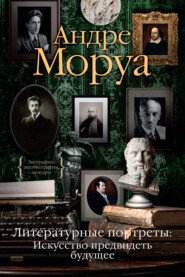По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Часть третья
Час торжества
Надо только жить; видеть все как оно есть, а то и совсем наоборот.
Сент-Бёв
I
После свадьбы
«Утром после свадьбы новобрачных не тревожат, оберегая покой упоенных друг другом счастливцев и отчасти их поздний сон…»[34 - Виктор Гюго. Отверженные.]
У Адели и Виктора Гюго не было этого спокойного пробуждения. Рано утром взволнованный Бискара постучался в дверь их спальни: состояние Эжена было ужасным. Виктор поспешно собрался, последовал за своим другом и «застал своего бедного товарища детских лет в горячечном бреду». Эжен зажег у себя в комнате все свечи, как на свадьбе, и рубил мебель саблей. Целый месяц Адель и Виктор Гюго, Поль Фуше и кузен Требюше, сменяя друг друга, ухаживали за ним. Пришлось уведомить отца, и генерал тотчас совершил путешествие из Блуа в Париж. «Он не приехал порадоваться счастью, он хотел быть участником горя». Виктор и Адель приветливо встретили «дорогого папу», которому они были обязаны своим браком. «Как иней на солнце, исчезла у сына горькая обида в лучах доброты этого превосходного человека…»
Отцу было тяжело слышать безумный бред красавца-сына, которого он видел в Корсике и в Италии пухленьким и веселым малышом, потом в Мадриде многообещающим учеником коллежа. Он решил – и это делает ему честь – увезти его с собой в Блуа; там к Эжену как будто вернулся на некоторое время рассудок, и он даже написал Виктору, поздравил молодую чету и пожелал ей счастья. Он говорил в этом письме, что отец и «мачеха, госпожа Гюго», очень добры к нему. Увы! Случился новый припадок буйного помешательства, такой серьезный, что больного пришлось отвезти обратно в Париж и поместить в лечебницу доктора Эскироля. Туда нужно было платить по четыреста франков в месяц, такой возможности у семьи не было. Виктор выхлопотал, чтобы его брата поместили за казенный счет в Сен-Морис, к доктору Руайе-Коллару. Врачи находили, что больной неизлечим. Несчастный Эжен стал чем-то вроде живого трупа. Братья редко навещали его. Эжен Гюго – Виктору, 12 декабря 1823 года: «Вот я здесь уже семь месяцев, а ты был у меня только один раз, а брат Абель – два раза… Но ведь должно же быть у тебя некоторое желание увидеться со мною, и тебе не трудно было бы удовлетворить его…» Эти слова – такой трагический упрек.
Ужасная судьба брата была для Виктора Гюго постоянной причиной печали и смутных укоров совести. Уж не он ли, восторжествовав над Эженом и в поэзии и в любви, довел его до отчаяния? Он не совершил ни преступления, ни греха против несчастного, и все же тема – братья-враги – стала неотвязно преследовать его. Она возникала во всех формах – в драматургии, в поэзии, в романе. Иногда Каин назывался Сатаной, иногда Клодом Фролло – в «Соборе Парижской Богоматери», Иовом в «Бургграфах»; иногда он появлялся под своим настоящим именем, как, например, в «Совести» или в «Конце Сатаны». А то, что второй брат носил имя Абель (Авель), быть может, укрепляло эту навязчивую мысль. А ведь сам Виктор не сделал ничего дурного, уж скорее Эжен, мучимый ревностью, играл в отношении его роль Каина. Но всегда Виктор видел в своих кошмарах заживо погребенного, темницу Железной Маски, могилу узников Торквемады. Всегда воображение рисовало ему несчастного, скорчившегося в темноте, под низким сводом. «О, гений! О, безумие! Ужасное соседство».
Он знает о таком соседстве. Всякий мечтатель (а Виктор Гюго любит называть себя Мечтателем) носит в себе воображаемый мир: у одних это грезы, у других – безумие. «Этот сомнамбулизм – свойствен человеку. Некоторое предрасположение ума к безумию, недолгое или частичное, совсем не редкое явление… Это вторжение в царство мрака не лишено опасности. У мечтательности есть жертвы – сумасшедшие. В глубинах души случаются катастрофы. Взрывы рудничного газа… Не забывайте правила: надо, чтобы Мечтатель был сильнее мечты. Иначе ему грозит опасность. Всякая мечта – это борьба. Возможное всегда подходит к реальному с каким-то таинственным гневом. Химера может подточить человеческий мозг…» В Викторе Гюго Мечтатель всегда был сильнее мечты. Его спасло то, что он сублимировал в стихах свою тоску и галлюцинации; он прочными корнями врос в реальность; но в Эжене он узнавал того, кем он и сам мог бы стать.
От мрачного огня, горевшего в его душе, ни одна вспышка не вырывается наружу. Все, кто знал Виктора Гюго в первые месяцы его брака, замечали его торжествующий вид, словно у «кавалерийского офицера, захватившего вражеский пост». Это объяснялось сознанием своей силы, порожденным его победами, упоительной радостью обладания своей избранницей, и вдобавок после сближения с отцом у него появилась гордость отцовскими военными подвигами, к которым он, как это ни странно, считал себя причастным. Почитателей, видевших его в первый раз, поражало серьезное выражение его лица и удивляло, с каким достоинством, несколько суровым, принимал их на своей «вышке» этот юноша, проникнутый наивным благородством и одетый в черное сукно.
«Очень любопытно смотреть на эту молодую чету, – говорит Сен-Вальри в письме к Рессегье. – Это любовь двух ангелов, и куда более поэтичная, чем в стихах Томаса Мура…» У молодой госпожи Гюго были темные блестящие волосы, очень красивые, «андалусские» глаза и вдобавок странное сочетание спокойствия и страсти в облике, некий «подавленный порыв чувства, готового вырваться». На первый взгляд в ней не было обаяния; надо было всмотреться в нее, и тогда выступала ее прелесть. Вскоре Адель забеременела, и Виктор Гюго был счастлив своим ранним отцовством. Такой молодой, он уже испытывал желание жить семейной жизнью, быть супругом и отцом. «Как-то сама собой вокруг него возникала патриархальная атмосфера, идиллическая и вместе с тем возвышенная». Теперь ему нужно было зарабатывать на троих: Леопольд Гюго II родился ровно через девять месяцев после свадьбы – 16 июля 1823 года.
Работа, работа, работа – в мансарде над кронами развесистых каштанов на улице Шерш-Миди. Создавались новые оды. Закончен был роман «Ган Исландец» и вручен Персану. Маркиз, ставший издателем, обязался в контракте, заключенном с Гюго, переиздать «Оды» и выпустить роман «Ган Исландец» в количестве тысячи экземпляров. Но из причитающегося ему гонорара Гюго получил только пятьсот франков, так как Персан обанкротился и, не имея возможности уплатить автору, оклеветал его – это дело обычное. Для Гюго началось время познания гнусных сторон литературных нравов. Пришлось еще раз прибегнуть к помощи отца. По счастью, министр внутренних дел назначил ему второе пособие – в две тысячи франков в год, а добряк Фуше пригласил на лето молодое семейство в Жантильи. Но на этот раз Виктора Гюго поместили уже не на готической голубятне, а в комнате Адели.
Роман «Ган Исландец» издан был в четырех выпусках, в серой обложке, на грубой бумаге и без фамилии автора. «Это своеобразное сочинение, – возвещал Персан, – говорят, является первым прозаическим произведением молодого писателя, уже известного по его блестящим успехам в поэзии». Эта книга, в которой Виктор Гюго вдохновлялся английским «черным романом» (Метьюрена, Льюиса, Анны Радклиф), когда-то начата была и для заработка, и для того, чтобы воплотить в образах ее героев – Этели и Орденера – любовь Гюго к Адели Фуше. Не следует забывать, что в нагромождении убийств, чудовищ, виселиц, палачей и пыток Гюго допускал сознательную нарочитость и пародию. Это было виртуозное произведение в «неистовом жанре». Мистифицировал автор и своей мнимой эрудицией. Он прочел наугад малоизвестные книги, например «Путешествие в Норвегию» Фабрициуса, «Наследник датского престола» П.-Г. Малле, и внес в свой роман целую кучу неудобоваримых псевдонаучных сведений: «Настоящее имя Одина – Фригге, сын Фридульфа». Этот педантизм импонировал, но Гюго не произвел сколько-нибудь серьезных изысканий, чтобы изобразить тот мир, который он описывал. В своем предисловии он и признавался в этом с иронией. Автор «ограничится лишь замечанием, что живописная сторона его романа была предметом особых его забот; что в нем часто будут встречаться буквы К, Y, Н и W – хоть обычно автор употребляет их чрезвычайно скупо… что читатель равным образом найдет здесь многочисленные дифтонги, которые варьируются с большим вкусом и изяществом; и что, наконец, всем главам предшествуют странные и таинственные эпиграфы, чрезвычайно усиливающие интерес к роману…»[35 - Виктор Гюго. Предисловие к «Гану Исландцу».]. Читая этот роман, скажешь, что здесь Гюго ближе к Стерну или Свифту, чем к Вальтеру Скотту или к «Монаху» Льюиса.
Однако ему удалось вызвать и ужас и интерес. Ему помогал в этом странный характер его воображения. У его отца и братьев была так же, как у него самого, склонность к мрачной фантастике. Как Байрон, он щедро разбрасывал черепа, из которых его герои пили «морскую воду и человеческую кровь». Он заявлял, что в Жантильи он будто бы работал в своей башенке в обществе летучей мыши. Друзья Гюго не приняли эту книгу всерьез. Ламартин написал ему из Сен-Пуана 8 июня 1823 года: «Мы перечитываем ваши восхитительные стихи и вашего ужасного „Гана“. Скажу мимоходом, что, по-моему, он чересчур ужасен; смягчите свою палитру; воображение, как лира, должно ласкать слух, вы ударяете по струнам слишком сильно. Говорю эти слова, имея в виду ваше будущее, – ведь у вас оно есть, а у меня его уже нет…» Желчный и остроумный Анри де Латуш в статье «Отомщенные классики» высмеял нового романиста:
Беззвездная полночь, готический зал…
Писатель-романтик собрату сказал:
Прошу вас, ответьте, мсье, без стыда,
По вкусу вам кровь и морская вода?
Вы вешали брата? Смеясь от души,
Внимали, как жертва стонала в тиши?
Скажите, у вас не дрожала рука,
Когда вы веревку снимали с крюка?..
Действительно, «Ган Исландец» был «чересчур ужасен», как говорил Ламартин, и давал богатый материал для пародий. Но какая тут энергия, сколько фантазии! Шарль Нодье напечатал в газете «Котидьен» статью, в которой он выразил сожаление, что молодой автор романа заставил себя изыскивать всякие уродства в жизни, отвратительные аномалии, но вместе с тем признавал, что далеко не всякий писатель способен начать с подобных заблуждений. Нодье хвалил бойкий, живописный слог Гюго и тонкость в передаче некоторых чувств. Статья для молодого автора упоительная, когда она подписана таким именем.
Критик и романист Шарль Нодье был на двадцать два года старше Гюго, он прожил жизнь весьма странную. Отец его, бывший ораторианец, стал в Безансоне главой революционеров, однако воспитание своего сына этот санкюлот доверил некоему «бывшему» – Жиро де Шантрану. Мальчик бесконечно много читал, увлекался Амио, Ронсаром, Монтенем. Читал Гомера в подлиннике. Учитель прямо с листа переводил ему Гёте и Шекспира. Нодье женился в городе Доль на женщине «без недостатков и без денег»; он стал библиотекарем в Безансоне, затем секретарем совершенно сумасшедшего англичанина сэра Герберта Крофта и, наконец, библиотекарем в городе Лейбахе, в Иллирии, стране, откуда он привез множество сюжетов для своих произведений – «Жан Сбогар», «Смарра», «Трильби, или Аргайльский лесной дух».
Нодье был по натуре своей человек благожелательный и смелый. Он чем-то напоминал Гофмана, был он и ботаником, и энтомологом, художником, путешественником и археологом, без ума влюбленным в готику. Он знал все. Поступив в «Деба», а затем в «Котидьен», он поддерживал молодых литераторов как товарищ, затем как старший брат; постепенно он приобрел большой вес. Гюго побежал на улицу Прованс поблагодарить его за статью о «Гане Исландце» и не застал дома. На следующий день Нодье («Лицо угловатое, глаза живые и усталые, облик фантастический и задумчивый») пришел к супругам Гюго, которые пригласили его с женой и дочерью Мари (двенадцатилетней девочкой, отличавшейся, однако, чуткостью взрослой женщины). Это было началом искренней дружбы.
Альфред де Виньи расхвалил «Гана Исландца»: «Друг мой, говорю вам – и вы уже сотый человек, которому я это говорю, хоть и живу в Орлеане: вы создали прекрасное и долговечное произведение… Вы стали во Франции основоположником романа в духе Вальтера Скотта… Сделайте еще один шаг: натурализуйте гениальный вымысел, для которого вы избрали Норвегию, измените имена и декорации, и мы возгордимся еще больше, чем шотландцы… Все в романе полно неослабного, животрепещущего интереса; я перевел дух, только когда прочел последнее слово. Благодарю вас от имени Франции…» В этом же письме Виньи говорил о своих «сердечных горестях» и доверил их Гюго: оказывается, он влюбился в Дельфину Гэ. Любовь была взаимной. Дельфина не осталась равнодушна к «самому обаятельному из всех», как говорила ее мать, Софи Гэ. Но графиня де Виньи полагала, что сын ее должен жениться на богатой, чтобы восстановить положение разорившейся семьи, и она наложила свое вето. Виньи с грустью подчинился, смирилась с этим и Дельфина.
Отношения с генералом Гюго становились все более родственными. Отец с сыном переписывались по поводу Эжена, затем по поводу выраженного Леопольдом Гюго желания, чтобы его вновь зачислили в армию и повысили в чине. Виктор занялся этим делом и говорил даже, что надеется выхлопотать у Шатобриана посольский пост для генерала. Он оказал также покровительство отцу в отношении его «Мемуаров» и добился, что книгоиздатель Лавока напечатал их. Материальные интересы оказались полезны для усиления добрых чувств. У генерала Гюго было две цели: найти опору в сыне, пользовавшемся высокими милостями, а кроме того, заставить детей признать новую госпожу Гюго, которая, как он говорил, была «второй матерью для всех вас». Действительно, когда Адель в тяжелых родах произвела на свет первого сына и «бедный ангелочек», казалось, вот-вот зачахнет, генерал Гюго и его супруга взяли ребенка вместе с кормилицей в Блуа и поместили в просторном белом доме, который они там купили. «Девицу Тома» теперь уже называли не иначе как «бабушкой Леопольда». Адель вышила чепец для своей свекрови. А ведь едва прошло два года с тех пор, как похоронили первую госпожу Гюго.
Девятого октября маленький Леопольд умер. Виньи, служивший в полку, который стоял гарнизоном в По, написал Виктору Гюго: «Ваша отцовская скорбь пришла так скоро после скорби о матери и о больном брате; вы удручены семейными горестями, хотя семья – естественное содружество наших близких и нам хочется видеть в ней единственный источник всех благ… Боже мой! Как печальна жизнь, друг мой…» По поводу болезни Эжена Альфред де Виньи очень образно сказал «о той страшной казни, которой подвергает нас наша физическая природа, когда она вдруг распадается задолго до смерти и когда души уже нет в теле, а оно стоит и улыбается, как эти ужасные фигуры в Геркулануме…». Но Гюго, несмотря на пережитые несчастья (мать, брат, сын), не считал жизнь печальной; он был полон жажды жить, работать, любить. Адель снова зачала ребенка. «Виктор, – говорил Эмиль Дешан, – без устали творит оды и детей».
II
«Французская муза»
Замечательные времена Реставрации, когда у людей была романтическая душа и классическая выучка.
Морис Баррес
«За время с 1819 по 1824 год под двойным влиянием – Андре Шенье и „Поэтических дум“ Ламартина, при отзвуках шедевров Байрона и Вальтера Скотта и громких стенаний Греции, в самый разгар религиозных и монархических иллюзий Реставрации, возник своего рода альбом прелюдий, в которых преобладала туманная меланхолия, жажда идеального, рыцарский тон и зачастую утонченное изящество отделки…» – писал Сент-Бёв. Лауреаты Тулузских поэтических состязаний – нежный Суме, рыжеволосый темпераментный Гиро с его гасконской речью – первые задавали тон; Эмиль Дешан предложил создать кружок и основать журнал. Так возникла «Французская Муза», объединявшая изысканных, чересчур изысканных молодых людей, любивших поэзию роялистов по традиции, «христиан из приличия и по смутному чувству».
Программа была составлена так: в религии – христианские чудеса в духе Шатобриана вместо языческих непристойностей времен Империи; в политике – монархия в духе Хартии; в любви – рыцарский платонизм. Это было «нечто нежное, благоуханное, ласкающее душу и пленительное; посвящение производили похвалами; поэта узнавали и приветствовали по какому-то таинственному признаку… Позолоченное рыцарство, разукрашенное Средневековье, прекрасные дамы, обитавшие в замках, пажи и их покровительницы, христианские молитвы в уединенных часовнях и отшельники, бедные сироты, маленькие нищие – все это имело бешеный успех и составляло основной запас сюжетов, не считая бесчисленных личных горестей…». Члены содружества называли друг друга просто по имени: Альфред, Эмиль, Гаспар или Виктор. В это сентиментальное франкмасонство входили и женщины. Красавицу Дельфину Гэ все называли Дельфина. Но когда Жюль де Рессегье, первейший трубадур из этих трубадуров, грассируя, попросил у Виктора Гюго разрешения называть его жену запросто – Адель, «молодой и строгий поэт отказал ему в таком разрешении». Он не любил фамильярности.
Эмиль Дешан предложил, чтобы каждый член кружка внес по тысяче франков в фонд издания «Музы». Для четы Гюго это было слишком много. Ламартин, который уже предпочитал восседать на вершине славы, живя помещиком на лоне природы, вдали от шумного литературного мира, отказался войти в кружок, но предложил Гюго заплатить за него денежный взнос: «Вступайте в число основателей журнала, а я, поскольку для меня невозможно дать для него ни свое имя, ни свои мысли, охотно внесу за вас положенную тысячу франков. Это останется между нами…» Гюго, оскорбленный такой уверткой, отказался принять деньги, но тем не менее играл в журнале главную роль благодаря своим стихам и своей природной властности.
Однако ж очень скоро настоящим центром объединения стал добряк Нодье, а местом встреч – его квартира, сначала на улице Прованс, а затем, с 1 января 1824 года, при библиотеке Арсенала, хранителем которой он стал, так как благоволивший к нему министр, при поддержке графа Артуа, дал ему в качестве новогоднего подарка этот завидный пост. Иногда беспечность – высшая ловкость, и никто не получает столько милостей, как эти немного ребячливые, легкомысленные люди. Великие мира сего любят покровительствовать рассеянным чудакам, так как всегда кажется, что те нуждаются в покровительстве. Нодье вдруг получил квартиру во дворце, в центре прославленного квартала. Из своих окон он видел, как солнце заходит за собор Парижской Богоматери. Хранитель библиотеки – это своего рода каноник-мирянин. Нодье, добродушный домосед и рутинер, наслаждался поздно пришедшим к нему комфортом. Его жена, тоже простая и милая женщина, тотчас внесла буржуазный уют в павильон «королевского дворца», ее живое и веселое, «цветущее, как букет», лицо скрашивало суровую декорацию. Их дочь Мари росла красавицей, и все поэты были ее друзьями.
По воскресеньям салон Арсенала блистал парадным освещением. Двери для всех были открыты: приходи кто хочешь. Там бывал Северен Тейлор, уроженец Брюсселя, англичанин по происхождению, французский офицер, товарищ Альфреда де Виньи и любимец правительства, Софи Гэ и лучезарная, как вешний день, Дельфина Гэ, прозванная «французской музой»; бывал там Суме, с триумфальным успехом поставивший две свои пьесы, «две лучшие трагедии нашей эпохи», как говорил Гюго, – словом, более чем когда-либо «наш великий Александр»; Гиро, прославившийся своим «Маленьким Савояром»; Альфред де Виньи и Гаспар де Понс в голубом мундире; разумеется, здесь бывали братья Дешан и огромный де Сен-Вальри, совладелец «Французской Музы».
С восьми до десяти часов вечера шла беседа. Нодье, стоя у камина, принимался что-нибудь рассказывать – воспоминания юности или фантастические происшествия. Куда девались тогда его равнодушие и вялость? Он становился удивительно красноречивым. Затем начинались литературные споры. «Андре Шенье зашел слишком далеко, – говорил Виктор Гюго, – в его стихах столько цезур и переносов фразы из одной строки в другую, что они лишаются музыкальности, а ведь в поэзии прежде всего нужна напевность». Нодье возражал: «Шенье романтик на свой лад – и это хорошо… В искусстве нет раз и навсегда установленных правил». Эмиль Дешан, сверкнув в улыбке превосходными зубами, говорил, кривя тонкие губы: «Вы еще откажетесь от своего мнения, дорогой Виктор…» В десять часов Мари Нодье садилась за пианино, и разговоры прекращались. Стулья отодвигали к стенам, и начинались танцы. Нодье, заядлый картежник, садился играть в экарте; Виньи, бледный, стройный, вальсировал с Дельфиной Гэ. Люди серьезные, в том числе и молодой Гюго, продолжали вполголоса беседовать в уголке. Госпожа Гюго, с загоревшимся взглядом своих «андалусских» глаз, танцевала, и муж время от времени тревожно посматривал на нее.
Все эти люди, хоть и собратья-литераторы, были добрыми друзьями. На смену царства острословия, говорил Эмиль Дешан, пришло царство добросердечия. Участники кружка великодушно хвалили друг друга. «Нашему великому Александру» воздавали самые высокие похвалы:
Мы ждем твоих стихов, их слава велика,
Их Франция возьмет в грядущие века…
Впрочем, хвалили всех по очереди, и Рессегье курил фимиам Виктору Гюго:
Воспели вы Маренго и Бувин
И одой обессмертили их славу.
Малерб, Гюго и Жан-Батист – по праву
Вы встали в ряд один.
Это общество взаимного поклонения раздражало язвительного Анри де Латуша, и в газете «Меркюр» он напал на эти крайности: «По-видимому, господа Александр С***, Александр Г***, Гаспар де П***, Сен-В***, Альфред де В***, Эмиль Д***, Виктор Г*** и некоторые другие условились, что они будут прославлять друг друга. Да и почему бы этим мелким князькам поэзии не заключить подобный союз?» «Мелкие князьки» энергично ответили пером Виктора Гюго: «Энтузиастов оскорбляют за то, что песнь одного поэта вдохновляет другого поэта, и желают, чтобы о людях, обладающих талантом, выносили суждение только те, кто таланта не имеет… Можно подумать, что для нас привычна лишь взаимная зависть литераторов; наш завистливый век насмехается над поэтическим братством, таким радостным и таким благородным, когда оно возникает между соперниками».
Большинство сотрудников «Французской Музы» стремились к обновлению поэзии, но отнюдь не хотели вмешиваться в ссору между романтизмом и классицизмом. Жюль де Рессегье выразил в весьма плоских стихах этот осторожный эклектизм:
У двух прекрасных школ, как у сестер, —
Одна повадка, разная одежда.
Которая милей? Напрасный спор:
Величие – в одной, в другой – надежда…
В чем же было тут дело? Какую действительность прикрывали слова романтизм и классицизм? Госпожа де Сталь делала тут два резких разграничения: «Литература, подражающая древним классикам, и та литература, которая своим рождением обязана духу Средневековья; первая – по самым своим истокам окрашена язычеством, а во второй – движущая сила и развитие исходят из глубоко духовной религии…» Если судить по этим определениям, то поэты «Французской Музы» близки были к романтизму. Они были христиане и трубадуры; предоставляли северным духам и вампирам место, которое некогда занимали нимфы и эвмениды; они читали Шиллера и в некоторой мере знали его (немного, так как мало кто из них владел немецким языком). Другие новаторы считали эту форму романтизма варварской и ретроградной. Ламартин говорил о «Музе»: «Это бред, а не гениальность». Стендаль около 1823 года писал, что он боится той «немецкой галиматьи, которую многие называют романтической». Он писал – «романтичизм» (на итальянский лад) и хотел, чтобы возник свободолюбивый романтизм, романтизм писателей-прозаиков, влюбленных в правду. Он высмеивал «молодых людей, которые избрали себе жанр мечтательный, тайны души; хорошо упитанные, с хорошими доходами, они непрестанно воспевают страдания человеческие и радость смерти». Он называл их «мрачными дураками».
К спорам примешался шовинизм. «„Вертер“ – роман какого-то немецкого поэта», – писал в 1805 году в газете «Деба» критик Жофруа. Позднее Ф.-Б. Гофман издевался над «поклонниками германской Мельпомены». Противники «Французской Музы» из числа либералов упрекали ее в том, что она больше немецкая и английская, чем французская; что она предлагает мистицизм народу, который всегда видел в мистицизме лишь предмет для шуток; что она преподносит туманные оды нашей нации, которая по своему характеру склонна ко всему позитивному; что «Муза» всерьез толкует с читателем-философом о всяческих суевериях. Словом, дух XVIII века восстал против духа XIX века. Во Французской Академии, которая по самому уж возрасту своих членов зачастую идет против новшеств и которая в те времена защищала классицизм и философию, господин Оже, постоянный секретарь Академии, в своей речи, произнесенной на публичном ее заседании, метал громы и молнии против содружества Арсенала, называл его еретической сектой в литературе: «Эта секта создалась недавно и насчитывает еще мало открытых адептов; но они молоды и горячи; преданность и энергия заменяют им силу и численность…» Он призывал к порядку госпожу де Сталь за ее разграничение классицизма от романтизма, «которое, неведомо для всех литератур, раскалывает их; проделывается такое разделение и в нашей литературе, которая о нем никогда и не подозревала…». Он упрекал романтиков в желании разрушить правила, на которых основаны французские поэзия и театр, и в том, что романтики ненавидят веселость и находят поэзию только в страданиях. Впрочем, их печаль чисто литературная, говорил Оже, не причиняющая никакого вреда их прекрасному здоровью. Короче говоря, романтизм не связан с реальной жизнью, это призрак, исчезающий, стоит только прикоснуться к нему.