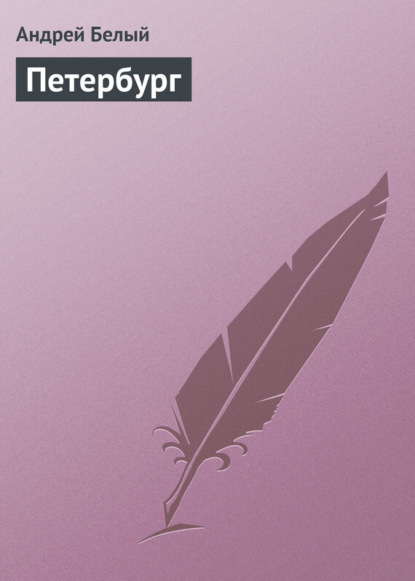По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петербург
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Та дама… Но той дамой была Софья Петровна; ей придется нам тотчас же уделить много слов.
Софья Петровна Лихутина отличалась, пожалуй, чрезмерной растительностью: и она была как-то необычайно гибка: если Софья Петровна Лихутина распустила б черные свои волосы, эти черные волосы, покрывая весь стан, упадали б до икр; и Софья Петровна Лихутина, говоря откровенно, просто не знала, что делать ей с этими волосами своими, столь черными, что, пожалуй, черней не было и предмета; от чрезмерности ли волос, или от их черноты – только, только: над губками Софьи Петровны обозначался пушок, угрожавший ей к старости настоящими усиками. Софья Петровна Лихутина обладала необычайным цветом лица; цвет этот был – просто жемчужный цвет, отличавшийся белизной яблочных лепестков, а то – нежною розоватостью; если же что-либо неожиданно волновало Софью Петровну, вдруг она становилась совершенно пунцовой.
Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами: если б я не боялся впасть в прозаический тон, я бы назвал глазки Софьи Петровны не глазами – глазищами темного, синего – темно-синего цвета (назовем их очами). Эти очи то искрились, то мутнели, то казались тупыми, какими-то выцветшими, углубленными в провалившихся орбитах, синевато-зловещих: и косили. Ярко-красные губы ее были слишком большими губами, но… зубки (ах, зубки!): жемчужные зубки! И при том – детский смех… Этот смех придавал оттопыренным губкам какую-то прелесть; и какую-то прелесть придавал гибкий стан; и опять-таки гибкий чрезмерно: все движения этого стана и какой-то нервной спины то стремительны были, то вялы – неуклюжи до безобразия.
Одевалась Софья Петровна в черное шерстяное платье с застежкой на спине, облекавшее ее роскошные формы; если я говорю роскошные формы, это значит, что словарь мой иссяк, что банальное слово «роскошные формы» обозначает для Софьи Петровны как-никак, а угрозу: преждевременную полноту к тридцати годам. Но Софье Петровне Лихутиной было двадцать три года.
Ах, Софья Петровна!
Софья Петровна Лихутина проживала в маленькой квартирке, выходившей на Мойку; там со стен отовсюду упадали каскады самых ярких, неугомонных цветов: ярко-огненных – там и здесь – поднебесных. На стенах японские веера, кружева, подвесочки, банты, а на лампах: атласные абажуры развевали атласные и бумажные крылья, будто бабочки тропических стран; и казалось, что рой этих бабочек, вдруг слетевши со стен, порасплещется поднебесными крыльями вокруг Софьи Петровны Лихутиной (знакомые офицеры ее называли ангел Пери, вероятно слив два понятия «Ангел» и «Пери» просто в одно: ангел Пери)».
Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, изображавшие вид горы Фузи-Ямы, – все до единого; в развешанных пейзажиках вовсе не было перспективы; но и в комнатках, туго набитых креслами, софами, пуфами, веерами и живыми японскими хризантемами, тоже не было перспективы: перспективой являлся то атласный альков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, или с двери слетающий, шепчущий что-то тростник, из которого выпорхнет все она же, а то Фузи-Яма – пестрый фон ее роскошных волос; надо сказать: когда Софья Петровна Лихутина в своем розовом кимоно по утрам пролетала из-за двери к алькову, то она была настоящей японочкой. Перспективы же не было.
Комнатки были – малые комнатки: каждую занимал лишь один огромный предмет: в крошечной спальной постель была огромным предметом; ванна – в крошечной ванной; в гостиной – голубоватый альков; стол с буфетом – в столовой; тем предметом в комнатке для прислуги – была горничная; тем предметом в мужниной комнате был, разумеется, муж.
Ну, откуда же быть перспективе?
Все шесть крохотных комнатушек отоплялися паровым отоплением, отчего в квартирке задушивал вас влажный оранжерейный жар; стекла окон потели; и потел посетитель Софьи Петровны; вечно потели – и прислуга, и муж; сама Софья Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой росой японская хризантема. Ну, откуда же в этой тепличке завестись перспективе?
Перспективы и не было.
Посетители Софьи Петровны
Посетитель оранжерейки Софьи Петровны, ангела Пери (кстати сказать, обязанный ангелу поставлять хризантемы), всегда ей хвалил японские пейзажи, присоединяя попутно свои рассуждения о живописи вообще; и наморщивши черные бровки, ангел Пери веско как-то выпаливал: «Пейзаж этот принадлежит перу Xадусаи»… ангел решительно путал как все собственные имена, так и все иностранные слова. Посетитель художник обижался при этом; и впоследствии к ангелу Пери не обращался с рацеями о живописи вообще: между тем этот ангел на последние свои карманные деньги накупал пейзажи и подолгу-подолгу в одиночестве любовался на них.
Посетителя Софья Петровна не занимала ничем: если это был светский молодой человек, преданный увеселениям, она считала нужным хохотать по поводу всех его и шутливых, и шутливых не вовсе, и серьезнейших слов; на все она хохотала, становилась пунцовой от хохота, и испарина покрывала ее крохотный носик; светский молодой человек становился тогда отчего-то также пунцовым; испарина покрывала и его нос: светский молодой человек удивляяся ее молодому, но далеко не светскому хохоту; удивляяся так, относил Софью Петровну Лихутину к демимонду; между тем на стол появлялась кружка с надписью «благотворительный сбор» и Софья Петровна Лихутина, ангел Пери, хохоча, восклицала: «Вы опять сказали мне фифку – платите же». (Софья Петровна учредила недавно благотворительный сбор в пользу безработных за каждую светскую фифку: фифками почему-то называла она нарочито сказанную глупость, производя это слово от «ф и»…) И барон Оммау-Оммергау, желтый Ее Величества кирасир, и граф Авен, кирасир синий, и лейб-гусар Шпорышев, и чиновник особых поручений в канцелярии Аблеухова Вергефден (все светские молодые люди) говорили за фифкою фифку, кладя в жестяную кружку двугривенный за двугривенным.
Почему же у ней бывали столькие офицеры? Боже мой, она танцевала на балах; и не будучи демимондною дамой, была дамой хорошенькой; наконец, она была офицершею.
Если же посетитель Софьи Петровны оказывался или сам музыкант, или сам музыкальный критик, или просто любитель музыки, Софья Петровна поясняла ему, что ее кумиры – Дункани Никиш; в восторженных выражениях, не столько словесных, сколько жестикуляционных, она поясняла, что и сама намерена изучить мелопластику, чтоб исполнить танец полета Валькирий ни более ни менее как в Байрейте; музыкант, музыкальный критик или просто любитель музыки, потрясенный неверным произнесением двух собственных имен (сам-то он произносил Денкан, Никиш, а не Дункан и Никиш), заключал, что Софья Петровна Лихутина просто-напросто пустая бабенка; и становился игривее; между тем очень хорошенькая прислуга вносила в комнатку граммофон: и из красной трубы жестяное горло граммофона изрыгало на гостя полет Валькирий. Что Софья Петровна Лихутина не пропускала ни одной модной оперы, это обстоятельство гость забывал: становился пунцовым и чрезмерно развязным. Такой гость выставлялся за дверь Софьей Петровной Лихутиной; и потому музыканты, игравшие для светского общества, были редки в оранжерейке; представители же светского общества граф Авен, барон Оммау-Оммергау, Шпорышев и Вергефден не позволяли себе неприличных выходок по отношению все-таки к офицерше, носившей фамилию стародворянского рода Лихутиных: поэтому и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден продолжали бывать. В их числе одно время частенько еще вращался студент, Николенька Аблеухов. И потом вдруг исчез.
Посетители Софьи Петровны как-то сами собою распались на две категории: на категорию светских гостей и на гостей так сказать. Эти, так сказать, гости были вовсе не гости: это были все желанные посетители… для отвода души; посетители эти не добивались быть принятыми в оранжерейке; нисколько! Их почти силком к себе затаскивал ангел; и, силком затащив, тотчас же отдавал им визит: в их присутствии ангел Пери сидел с поджатыми губками: не хохотал, не капризничал, не кокетничал вовсе, проявляя крайнюю робость и крайнюю немоту, а так сказать гости бурно спорили друг с другом. И слышалось: «революция – эволюция».
И опять: «революция – эволюция». Все только об одном и спорили эти, так сказать, гости; то была все ни золотая, ни даже серебряная молодежь: то была медная, бедная молодежь, получавшая воспитание на свои трудовые гроши; словом, то была учащаяся молодежь высших учебных заведений, щеголявшая обилием иностранных слов: «социальная революция». И опять-таки: «социальная эволюция». Ангел Пери неизменно спутывал те слова.
Офицер: Сергей Сергеич Лихутин
Среди прочей учащейся молодежи зачастила к Лихутиным одна в том кругу уважаемая, светлая личность: курсистка, Варвара Евграфовна (здесь могла Варвара Евграфовна изредка повстречать самого Nicolas Аблеухова).
Под влиянием светлой особы ангел Пери однажды осветил своим присутствием – ну, представьте же: митинг! Под влиянием светлой особы ангел Пери поставил на стол и самую свою медную кружку с туманною надписью: «Благотворительный сбор». Разумеется, эта кружка была предназначена для гостей; все же личности, относящиеся к гостям так сказать, раз навсегда Софьей Петровной Лихутиной от поборов освобождались; но поборами были обложены и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден. Под влиянием той же светлой особы ангел Пери стал захаживать по утрам в городскую школу О. О. и долбил без всякого толку «Манифест» Карла Маркса. Дело в том, что в ту пору у нее ежедневно бывал студент, Николенька Аблеухов, которого можно было без риску ей познакомить как с Варварой Евграфовной (влюбленной в Николеньку), так и с желтым Ее Величества кирасиром. Аблеухов, как сын Аблеухова, всюду, конечно, был принят.
Впрочем, с той поры, как Николенька перестал вдруг бывать у ангела Пери, этот ангел тайком от гостей так сказать упорхнул вдруг к спиритам, к баронессе (ну, как ее?), собиравшейся поступить в монастырь. С той поры на столике перед Софьей Петровной красовалась великолепно переплетенная книжечка «Человек и его тела» какой-то госпожи Анри Безансон (Софья Петровна опять-таки путала: не Анри Безансон – Анни Безант).
Свое новое увлечение Софья Петровна старательно скрыла как от барона Оммау-Оммергау, так и от Варвары Евграфовны; несмотря на свой заразительный смех и на крошечный лобик, скрытность ангела Пери достигала невероятных размеров: так, Варвара Евграфовна ни разу не встретилась с графом Авеном, ни даже с бароном Оммау-Оммергау. Разве только однажды в передней она увидала случайно меховую лейб-гусарскую шапку с султаном. Но об этой лейб-гусарской шапке с султаном впоследствии не было речи.
Что под всем этим крылось? Бог весть!
Был еще один посетитель Софьи Петровны Лихутиной; офицер: Сергей Сергеевич Лихутин; собственно говоря, это был ее муж; он заведовал где-то там провиантом; рано поутру уходил он из дому; появлялся дома не ранее полуночи; одинаково кротко здоровался просто с гостями и с гостями так сказать, с одинаковой кротостью говорил для приличия фифку, опуская в кружку двугривенный (если были при этом граф Авен или барон Оммау-Оммергау), или скромно кивал головой на слова «революция – эволюция», выпивал чашку чая и шел в свою комнату; молодые светские люди про себя его называли армейчиком, а учащаяся молодежь – офицером-бурбоном (в девятьсот пятом году Сергей Сергеич имел несчастие защищать от рабочих своей полуротою Николаевский Мост). Собственно говоря, Сергей Сергеич Лихутин охотнее всего воздержался бы и от фифок, и от слов «революция – эволюция». Собственно говоря, он не прочь был бы попасть к баронессе на спиритический сеансик; но о своем скромном желании на правах мужа вовсе он не настаивал, ибо вовсе он не был деспотом по отношению к Софье Петровне: Софью Петровну любил он всею силой души; более того: два с половиною года тому назад он женился на ней вопреки желанью родителей, богатейших симбирских помещиков; с той поры он был проклят отцом и лишен состояния; с той поры для всех неожиданно скромно он поступил в Григорийский полк.
Был еще посетитель: хитрый хохол-малоросс Липпанченко; этот был весьма сладострастен и звал Софью Петровну не ангелом, а… душканом; про себя же ее называл хитрый хохол-малоросс Липпанченко просто-напросто: бранкуканом, бранкукашкою, бранкуканчиком (вот слова ведь!). Но держался Липпанченко в границах приличия; и потому-то был он вхож в этот дом.
Добродушнейший муж Софьи Петровны, Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Гр-горийского Его Величества Короля Сиамского полка, относился с кротостью к революционному кругу знакомств своей дорогой половины; к представителям светского круга относился он лишь с подчеркнутым благодушием; а хохла-малоросса, Липпанченко, всего-навсего он терпел: этот хитрый хохол на хохла, кстати сказать, и не походил вовсе: походил скорей на помесь семита с монголом; он был и высок, и толст; желтоватое лицо этого господина неприятно плавало в своем собственном подбородке, выпертом крахмальным воротничком; и носил Липпанченко желто-красный атласный галстук, заколотый стразом, щеголяя полосатой темно-желтою парой и такого же цвета ботинками; но при этом Липпанченко беззастенчиво красил волосы в коричневый цвет. Про себя Липпанченко говорил, что он экспортирует русских свиней за границу и на этом свинстве разжиться собирается основательно.
Как бы ни было, Липпанченко, его одного, недолюбливал подпоручик Лихутин: про Липпанченко ходили темные слухи. Но что спрашивать, кого не любил подпоручик Лихутин: подпоручик Лихутин, разумеется, любил всех: но кого особенно он любил одно время, так это Николая Аполлоновича Аблеухова: ведь друг друга знавали они с самых первых отроческих лет: Николай Аполлонович был, во-первых, шафером на свадьбе Лихутина, во-вторых, ежедневным посетителем квартиры на Мойке в продолжение, без малого, полутора года. Но потом он скрылся бесследно.
Не Сергей Сергеевич, разумеется, виноват в исчезновении сенаторского сына, а сенаторский сын или даже сам ангел Пери.
Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом: дама… А от дамы что спрашивать!
Стройный шафер красавец
Еще в первый день своего, так сказать, «дамства», при совершении таинства бракосочетания, когда Николай Аполлонович держал над мужем ее, Сергеем Сергеевичем, высокоторжественный венец, Софью Петровну Лихутину мучительно поразил стройный шафер, красавец, цвет его неземных, темно-синих, огромных глаз, белость мраморного лица и божественность волос белольняных: те глаза ведь не глядели, как часто впоследствии, из-за тусклых стекол пенсне, а лицо подпирал золотой воротник новенького мундирчика (не у всякого же студента есть такой воротник). Ну, и… Николай Аполлонович зачастил к Лихутиным сперва раз в две недели; далее – раз в неделю; два, три, четыре раза в неделю; наконец, зачастил ежедневно. Скоро Софья Петровна заметила под маскою ежедневных заходов, что лицо Николая Аполлоновича, богоподобное, строгое, превратилось в маску: ужимочки, бесцельные потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушечье выраженье улыбки, проистекавшее от несходившей с лица игры всевозможнейших типов, заслонили навек то лицо от нее. И как только это заметила Софья Петровна, она к ужасу своему поняла, что была в то лицо влюблена, в то, а не это. Ангел Пери хотела быть примерной женой: а ужасная мысль, что, будучи верной, она уже увлеклась не мужем, – эта мысль совершенно разбила ее. Но далее, далее: из-под маски, ужимок, лягушечьих уст она бессознательно вызывала безвозвратно потерянную влюбленность: она мучила Аблеухова, осыпала его оскорбленьями; но, таясь от себя, рыскала по его следам, узнавала его стремленья и вкусы, бессознательно им следовала, все надеясь обресть в них подлинный, богоподобный лик; так она заломалась: появилась на сцену сперва мелопластика, потом кирасир барон Оммау-Оммергау, наконец, появилась Варвара Евграфовна с жестяною кружкою для собирания фифок.
Словом, Софья Петровна запуталась: ненавидя, любила; любя, навидела.
С той поры ее действительный муж Сергей Сергеич Лихутин обратился всего-навсего в посетителя квартирки на Мойке: стал заведовать, где-то там, провиантом; уходил из дому рано утром; появлялся с полуночи: говорил для приличия фифку, опуская в кружку двугривенный, или скромно кивал головой на слова «революция – эволюция», выпивал чашку чая и шел к себе спать: надо же было утром как можно ранее встать и идти где-то там, заведовать провиантом. Оттого лишь Сергей Сергеич, где-то там, стал заведовать провиантом, что свободы жены не хотел он стеснять.
Но свободы Софья Петровна не вынесла: у нее ведь был такой крошечный, крошечный лобик; вместе с крошечным лобиком в ней таились вулканы углубленнейших чувств: потому что она была дама; а в дамах нельзя будить хаоса: в этом хаосе скрыты у дамы все виды жестокостей, преступлений, падений, все виды неистовых бешенств, как все виды на земле еще не бывалых геройств; в каждой даме таится преступница: но совершись преступление, кроме святости ничего не останется в истинно дамской душе.
Скоро мы без сомнения докажем читателю существующую разделенность и души Николая Аполлоновича на две самостоятельные величины: богоподобный лед – и просто лягушечья слякоть; та вот двойственность и является принадлежностью любой дамы: двойственность – по существу не мужская, а дамская принадлежность; цифра два – символ дамы; символ мужа – единство. Только так получается троичность, без которой возможен ли домашний очаг?
Двойственность Софьи Петровны мы выше отметили: нервность движений– и неуклюжая вялость; недостаточность лобика и чрезмерность волос; Фузи-Яма, Вагнер, верность женского сердца – и «Анри Безансон», граммофон, барон Оммергау и даже Липпанченко. Будь Сергей Сергеич Лихутин или Николай Аполлонович действительными единствами, а не двоицами, троичность бы была; и Софья Петровна нашла бы гармонию жизни в союзе с мужчиной; граммофон, мелопластика, Анри Безансон, Липпанченко, даже Оммау-Оммергау полетели бы к черту.
Но не было единого Аблеухова: был номер первый, богоподобный, и номер второй, лягушонок. Оттого-то все то и произошло.
Что же произошло?
В Софье Петровне Николай Аполлонович-лягушонок увлекся глубоким сердечком, приподнятым надо всей суетой; не крохотным лобиком – волосами; а божественность Николая Аполлоновича, презирая любовь, упивалась цинично так мелопластикой; оба спорили в нем, кого любить: бабенку ли, ангела ли? Ангел Софья Петровна, как ангелу естественно подобает, возлюбила лишь бога: а бабенка запуталась: неприятной улыбкой она сперва возмущалась, а потом она полюбила именно это свое возмущение; полюбивши же ненависть, полюбила гаденькую улыбку, но какою-то странной (все сказали бы, что развратной) любовью: что-то было во всем этом неестественно жгучее, неизведанно сладкое, роковое.
Неужели же в Софье Петровне Лихутиной пробудилась преступница? Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом: дама и дама…
А от дамы что спрашивать!
Красный шут
Собственно говоря, последние месяцы с предметом своим Софья Петровна держала себя до крайности вызывающе: пред граммофонной трубой, изрыгающей «Смерть Зигфрида», она училась телодвижению (и еще какому!), поднимая едва ли не до колен свою шелком шуршащую юбку; далее: ножка ее из-под столика Аблеухова касалась не раз и не два. Неудивительно, что этот последний не раз ангела и порывался обнять; но тогда ускользал ангел, сперва обливая поклонника холодом: и потом опять принимался за старое. Но когда однажды она, защищая греческое искусство, предложила составить кружок для целомудренных обнажений, Николай Аполлонович не выдержал: вся многодневная его безысходная страсть бросилась в голову (Николай Аполлонович в борьбе ее уронил на софу)…
Но Софья Петровна мучительно укусила до крови губ ее искавшие губы, а когда Николай Аполлонович растерялся от боли, то пощечина звонко огласила японскую комнату.
– «Уу… Урод, лягушка… Ууу – красный шут».
Николай Аполлонович ответил спокойно и холодно:
– «Если я – красный шут, вы – японская кукла…»
С чрезвычайным достоинством распрямился он у дверей; в этот миг лицо его приняло именно то далекое, ею однажды пойманное выраженье, вспоминая которое, незаметно она его полюбила; и когда ушел Николай Аполлонович, она грохнулась на пол, и царапая, и кусая в плаче ковер; вдруг вскочила она и простерла в дверь руки:
– «Приходи, вернись – бог!»