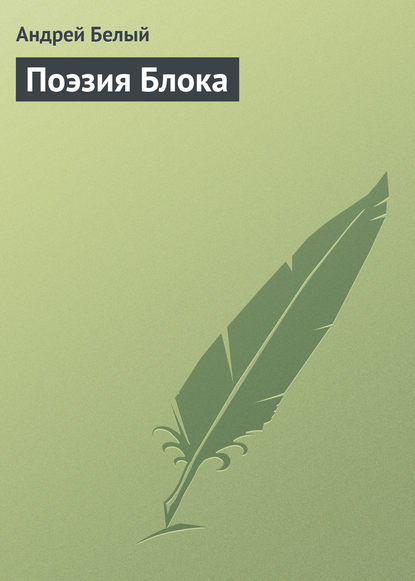По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поэзия Блока
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Устав прикрывать
Поступки и мысли сограждан моих,
Упало в болото[13 - «Ночная Фиалка» (1906).].
Где ж Прекрасная Дама?
Она не придет никогда!
Она не ездит на пароходе![14 - «Поэт» («Сидят у окошка с папой…», 1905).]
Характерно преобладанье болота: вода – сладострастие; и его весенний разлив в первой книге «небесное вожделенье»; зацветание гнилью болота есть болезнь нашей страсти.
Я не люблю пустого словаря…
«Ты мой». «Твоя». «Люблю». «Навеки твой…»
Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь…»
Назавтра я уйду.
Я гнал ее далеко…
…Кричал и гнал
Ее, как зверя…[15 - Неточные цитаты из стихотворения «В дюнах» (1907).]
Солнце жизни остыло; источник стихийности – солнце – кривит свой «приученный лик…». «В этом мире солнца больше нет!» – восклицает поэт; наступает ночь – смерть стихий. Поэт бежит в город: «в кабаках, в переулках» он ищет забвенья. В нем замерзла стихия воды: стала снегом и льдом. Так, стихийное, испепеленное тело поэзии Блока уносится в ночи метелью.
Размечу твой легкий пепел
По равнине снеговой[16 - «На снежном костре» («И взвился костер высокий…», 1907) из цикла «Снежная маска».].
Тема «Снежной маски» проходит пред нами в изысканных ритмах. Смерть болящих стихий отрезвляет поэта. В третьей книге стихов – второй день его Музы. Он восходит не красными, а желтыми зорями; и уже не в былой синеве, а в холодном, далеком, зеленом, стеклянном воистину небе. Боттичелливская двуличная нежность природы у Блока сменяется мантеньевским четким контуром. Пропадает вольный размер и неестественное обилие пляшущих у Блока хореев; обилие четырехстопного ямба, которым ритмически силен поэт, налицо; пропадают нечеткости рифм второй книги (прорубью – поступью, полюсом – поясом, подворотни – оборотня, человечьей – плечи и т. д.).
Замечательно, ритм и метр поэзии Блока напечатлевают вполне перелом второй книги; и ломаются с ним. Нежнейший у Блока трехстопный анапест наименее представлен здесь именно; неестественный Блоку хорей, наоборот, здесь удвоен; музыкальнейший ямб не представлен почти (только 40 ямбических стихотворений вместо 100 первой книги и 95 второй). Угасанью стихий и пейзажа соответствует угасание метра и ритма.
Этот ритм, этот метр полнозвучны опять в третьем томе, являющем Блока пред нами воистину русским; он рисует уже не соблазны, а «страшные годы» России. Покрывало с «Имени» сорвано; названо Имя: Россия.
V
Блок – поэт русский.
Самосознание русского – в соединении природной стихии с сознанием запада; в трагедии оно крепнет: предполагая стихийное расширение подсознания до групповой души Руси, переживает оно расширение это как провал в подсознание, потому что самосознание русского предполагает рост личности и чеканку сознания; самосознание русского начинает рождаться в трагедии разрывания себя пополам меж стихийным востоком и умственным западом; его рост в преодоленье разрыва. Мы конкретны в стихийном; абстрактны в сознании; самосознание наше в духовной конкретности.
Может быть, Хомяков, Данилевский, Аксаков и русские – в подсознании; в идеологии – нет; идеология их искусственна: она – вытяжка из конкретно возникших западноевропейских идей – вытяжка для России; в идеологии западника более конкретны русские; славянофилы суть западники в дурном смысле слова. Славянофильская абстракция Тютчева перепортила Тютчеву ряд стихов: в нем художник с мыслителем только смешаны, а не слиты: русского самосознания нет в поэзии Тютчева.
Первоначальный рост музы Блока есть безмерное расширение стихий: разлив русских вод; их весеннее таянье; наоборот, духовное начало поэзии осознает Блок абстрактно; не Небесная Мудрость стоит перед нами: стоит перед нами София Александрии (и даже: упадочной Византии), окруженная «храмами», «красною позолотой», лампадками, даже русскими «теремами». Здесь сознание Блока абстрактно: оно складывает ему византийский «style russe»[17 - русский стиль (фр.).], оживляемый не огнем небесной стихии (потому что стихия огня выше воздуха и воды; и она пламеносный эфир, образующий, по Лукрецию, пылающие стены вселенной)[18 - Образ из космогонической поэмы Лукреция Кара «О природе вещей» (кн. I, ст. 73).], – нет: абстрактное сознание Блока разогревается им не эфирным огнем живой мысли, а огнями болотных страстей: оживление византийского Лика у Блока не сверху, а снизу; оживление его в хлыстовстве, в сектантстве.
VI
Славянофилы – сектанты России. Начало поэзии Блока в непроизвольном славянофильстве; необычайный разлив русских вод, превышающий своим ярким порывом порывы славянофильства, ломает в поэзии Блока византийско-хлыстовский «style russe», обнаруживая довизантийскую бездну России, ту древнюю бездну, в которой ломается в нас представление русский в многообразии голосов; эти «попики», «чертенята» второго этапа поэзии суть не русские, а Радимичи, Вятичи, Кривичи; Блок в стихиях древнее славянофилов: Кривич он; и его Прекрасная Дама какая-то Кривичская дева, переряженная в пестрый наряд, состоящий из современных заплат, наскоро наброшенных Блоком на византийское рубище; в таком виде она перед нами какая-то ряженая; литургия Небесному Лику кончается в Блоке славянскими святками на болоте; и Блок бежит в город: становится западником; в славянофилах отсутствует осознанье до дна темной древности корней русской жизни; нет трагедии, нет конкретной муки сознания, заставляющего воистину русского видеть в западном росте личности совершенно конкретную опору сознания в борьбе со стихиями.
Славянофильский лик Музы разоблачен в Блоке Блоком: не София он, не Россия, а древняя, темная Русь, т. е. сонное марево:
Что же маячишь ты, сонное марево?[19 - «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» (1910).]
Вместо сонного марева видит он другой лик России:
Там чернеют фабричные трубы;
Там заводские стонут гудки[20 - «Новая Америка» («Праздник радостный, праздник великий…», 1913).].
Лик Кривичской красавицы разбоен для Блока, и он восклицает:
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.
Эта разбойная Русь, где
Чудь начудила да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых[21 - «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..».],
должна трагически просветиться, очиститься, чтобы групповое, стихийное, древнее в ней начало возвысилось до соединения с Небом (вне-национальным) и стало Душою России, огромной России, в которой мы ныне живем. И Блок верит, что отдание разбойной красы иному началу приведет к просветлению:
Не пропадешь, не сгинешь ты —
в этой вере в грядущее правая вера в Россию, соединенная с западнической критикой ее темных низин.
VII
Блок двояко трагичен в смешении России и Руси, в смешении личной страсти с служением родине. Осознание это ломает поэзию Блока; вместо России увидел он Мерю да Чудь; вместо Невесты – цыганку («А монисто бренчало, цыганка плясала и визжала заре о любви»)[22 - «В ресторане» («Никогда не забуду (он был, или не был…», 1910).]; осознание это ужасно для Блока («Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце – острый французский каблук»)[23 - «Унижение» («В черных сучьях дерев обнаженных…», 1911).]; и трагедия трезвости вырывает признание:
И не ведаем сил мы своих,
И, как дети, играя с огнем,
Обжигаем себя и других[24 - «Есть игра: осторожно войти…».].
Признание это чуждо славянофильству: славянофильство играет с огнем.
Молчите, проклятые книги.
Я вас не писал никогда![25 - «Друзьям» («Друг другу мы тайно враждебны…», 1908).] —
ставит Блок свою последнюю точку на «славянофильском» периоде; тем не менее он с Россией:
Наша русская дорога,
Наши русские туманы.
Наши шелесты в овсе[26 - «Последнее напутствие» («Боль проходит понемногу…», 1914).].
Осознание темных страстей превращает разлив древних вод в замерзающее болото и в снежную маску, но тайный жар стихов Блока остался:
Их тайный жар тебе поможет жить[27 - «О, нет! Не расколдуешь сердца ты…» (1913).].
В чем же жар, когда все замерзло для Блока: воздух, воды, земля? В огне неба, в Лукрециевых «пламенных стенах вселенной»: в сознании русского, что судьбой его родины должна быть судьба лишь небесная, не земная, языческая. Трагедия перенесения Лика России из прошлого в искомое будущее просветляет разбойное в нем начало, почти убивает:
Под насыпью во рву некошеном
Лежит и смотрит, как живая[28 - «На железной дороге» (1910).].
Не умерла она, судьба родины, судьба женщины русской (для Блока до сей поры родина олицетворяется с им любимым и женственным ликом):
Поступки и мысли сограждан моих,
Упало в болото[13 - «Ночная Фиалка» (1906).].
Где ж Прекрасная Дама?
Она не придет никогда!
Она не ездит на пароходе![14 - «Поэт» («Сидят у окошка с папой…», 1905).]
Характерно преобладанье болота: вода – сладострастие; и его весенний разлив в первой книге «небесное вожделенье»; зацветание гнилью болота есть болезнь нашей страсти.
Я не люблю пустого словаря…
«Ты мой». «Твоя». «Люблю». «Навеки твой…»
Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь…»
Назавтра я уйду.
Я гнал ее далеко…
…Кричал и гнал
Ее, как зверя…[15 - Неточные цитаты из стихотворения «В дюнах» (1907).]
Солнце жизни остыло; источник стихийности – солнце – кривит свой «приученный лик…». «В этом мире солнца больше нет!» – восклицает поэт; наступает ночь – смерть стихий. Поэт бежит в город: «в кабаках, в переулках» он ищет забвенья. В нем замерзла стихия воды: стала снегом и льдом. Так, стихийное, испепеленное тело поэзии Блока уносится в ночи метелью.
Размечу твой легкий пепел
По равнине снеговой[16 - «На снежном костре» («И взвился костер высокий…», 1907) из цикла «Снежная маска».].
Тема «Снежной маски» проходит пред нами в изысканных ритмах. Смерть болящих стихий отрезвляет поэта. В третьей книге стихов – второй день его Музы. Он восходит не красными, а желтыми зорями; и уже не в былой синеве, а в холодном, далеком, зеленом, стеклянном воистину небе. Боттичелливская двуличная нежность природы у Блока сменяется мантеньевским четким контуром. Пропадает вольный размер и неестественное обилие пляшущих у Блока хореев; обилие четырехстопного ямба, которым ритмически силен поэт, налицо; пропадают нечеткости рифм второй книги (прорубью – поступью, полюсом – поясом, подворотни – оборотня, человечьей – плечи и т. д.).
Замечательно, ритм и метр поэзии Блока напечатлевают вполне перелом второй книги; и ломаются с ним. Нежнейший у Блока трехстопный анапест наименее представлен здесь именно; неестественный Блоку хорей, наоборот, здесь удвоен; музыкальнейший ямб не представлен почти (только 40 ямбических стихотворений вместо 100 первой книги и 95 второй). Угасанью стихий и пейзажа соответствует угасание метра и ритма.
Этот ритм, этот метр полнозвучны опять в третьем томе, являющем Блока пред нами воистину русским; он рисует уже не соблазны, а «страшные годы» России. Покрывало с «Имени» сорвано; названо Имя: Россия.
V
Блок – поэт русский.
Самосознание русского – в соединении природной стихии с сознанием запада; в трагедии оно крепнет: предполагая стихийное расширение подсознания до групповой души Руси, переживает оно расширение это как провал в подсознание, потому что самосознание русского предполагает рост личности и чеканку сознания; самосознание русского начинает рождаться в трагедии разрывания себя пополам меж стихийным востоком и умственным западом; его рост в преодоленье разрыва. Мы конкретны в стихийном; абстрактны в сознании; самосознание наше в духовной конкретности.
Может быть, Хомяков, Данилевский, Аксаков и русские – в подсознании; в идеологии – нет; идеология их искусственна: она – вытяжка из конкретно возникших западноевропейских идей – вытяжка для России; в идеологии западника более конкретны русские; славянофилы суть западники в дурном смысле слова. Славянофильская абстракция Тютчева перепортила Тютчеву ряд стихов: в нем художник с мыслителем только смешаны, а не слиты: русского самосознания нет в поэзии Тютчева.
Первоначальный рост музы Блока есть безмерное расширение стихий: разлив русских вод; их весеннее таянье; наоборот, духовное начало поэзии осознает Блок абстрактно; не Небесная Мудрость стоит перед нами: стоит перед нами София Александрии (и даже: упадочной Византии), окруженная «храмами», «красною позолотой», лампадками, даже русскими «теремами». Здесь сознание Блока абстрактно: оно складывает ему византийский «style russe»[17 - русский стиль (фр.).], оживляемый не огнем небесной стихии (потому что стихия огня выше воздуха и воды; и она пламеносный эфир, образующий, по Лукрецию, пылающие стены вселенной)[18 - Образ из космогонической поэмы Лукреция Кара «О природе вещей» (кн. I, ст. 73).], – нет: абстрактное сознание Блока разогревается им не эфирным огнем живой мысли, а огнями болотных страстей: оживление византийского Лика у Блока не сверху, а снизу; оживление его в хлыстовстве, в сектантстве.
VI
Славянофилы – сектанты России. Начало поэзии Блока в непроизвольном славянофильстве; необычайный разлив русских вод, превышающий своим ярким порывом порывы славянофильства, ломает в поэзии Блока византийско-хлыстовский «style russe», обнаруживая довизантийскую бездну России, ту древнюю бездну, в которой ломается в нас представление русский в многообразии голосов; эти «попики», «чертенята» второго этапа поэзии суть не русские, а Радимичи, Вятичи, Кривичи; Блок в стихиях древнее славянофилов: Кривич он; и его Прекрасная Дама какая-то Кривичская дева, переряженная в пестрый наряд, состоящий из современных заплат, наскоро наброшенных Блоком на византийское рубище; в таком виде она перед нами какая-то ряженая; литургия Небесному Лику кончается в Блоке славянскими святками на болоте; и Блок бежит в город: становится западником; в славянофилах отсутствует осознанье до дна темной древности корней русской жизни; нет трагедии, нет конкретной муки сознания, заставляющего воистину русского видеть в западном росте личности совершенно конкретную опору сознания в борьбе со стихиями.
Славянофильский лик Музы разоблачен в Блоке Блоком: не София он, не Россия, а древняя, темная Русь, т. е. сонное марево:
Что же маячишь ты, сонное марево?[19 - «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» (1910).]
Вместо сонного марева видит он другой лик России:
Там чернеют фабричные трубы;
Там заводские стонут гудки[20 - «Новая Америка» («Праздник радостный, праздник великий…», 1913).].
Лик Кривичской красавицы разбоен для Блока, и он восклицает:
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.
Эта разбойная Русь, где
Чудь начудила да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых[21 - «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..».],
должна трагически просветиться, очиститься, чтобы групповое, стихийное, древнее в ней начало возвысилось до соединения с Небом (вне-национальным) и стало Душою России, огромной России, в которой мы ныне живем. И Блок верит, что отдание разбойной красы иному началу приведет к просветлению:
Не пропадешь, не сгинешь ты —
в этой вере в грядущее правая вера в Россию, соединенная с западнической критикой ее темных низин.
VII
Блок двояко трагичен в смешении России и Руси, в смешении личной страсти с служением родине. Осознание это ломает поэзию Блока; вместо России увидел он Мерю да Чудь; вместо Невесты – цыганку («А монисто бренчало, цыганка плясала и визжала заре о любви»)[22 - «В ресторане» («Никогда не забуду (он был, или не был…», 1910).]; осознание это ужасно для Блока («Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце – острый французский каблук»)[23 - «Унижение» («В черных сучьях дерев обнаженных…», 1911).]; и трагедия трезвости вырывает признание:
И не ведаем сил мы своих,
И, как дети, играя с огнем,
Обжигаем себя и других[24 - «Есть игра: осторожно войти…».].
Признание это чуждо славянофильству: славянофильство играет с огнем.
Молчите, проклятые книги.
Я вас не писал никогда![25 - «Друзьям» («Друг другу мы тайно враждебны…», 1908).] —
ставит Блок свою последнюю точку на «славянофильском» периоде; тем не менее он с Россией:
Наша русская дорога,
Наши русские туманы.
Наши шелесты в овсе[26 - «Последнее напутствие» («Боль проходит понемногу…», 1914).].
Осознание темных страстей превращает разлив древних вод в замерзающее болото и в снежную маску, но тайный жар стихов Блока остался:
Их тайный жар тебе поможет жить[27 - «О, нет! Не расколдуешь сердца ты…» (1913).].
В чем же жар, когда все замерзло для Блока: воздух, воды, земля? В огне неба, в Лукрециевых «пламенных стенах вселенной»: в сознании русского, что судьбой его родины должна быть судьба лишь небесная, не земная, языческая. Трагедия перенесения Лика России из прошлого в искомое будущее просветляет разбойное в нем начало, почти убивает:
Под насыпью во рву некошеном
Лежит и смотрит, как живая[28 - «На железной дороге» (1910).].
Не умерла она, судьба родины, судьба женщины русской (для Блока до сей поры родина олицетворяется с им любимым и женственным ликом):