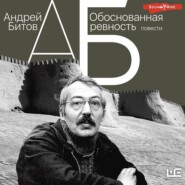По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пушкинский дом
Автор
Год написания книги
1964
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отец отца
В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества.
То ли Лева справился с жизнью, то ли жизнь – с ним: он успокоился в семейных своих переживаниях очень вскоре. Все-таки по молодости он гораздо более предполагал за собою разных чувств, нежели знал их. Предположение за собою чувств, однако, очень переживательно (почему мы и имеем возможность утверждать, что наша молодежь “очень эмоциональна”), потому что не имеет под собою почвы, кроме самой природы, которую как раз одну и не предполагает… Эти гипотетические чувства сильны еще потому, что сил много. Лева отработал “гипотезу второго отца”, оставалась еще “гипотеза деда”. У сына родился отец. У внука рождается дед.
…Когда в семье пошли разговоры о деде, еще до его возвращения; когда Лева всматривался в его прекрасные фоточерты и ссорился с отцом, гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы несшее в себе те же черты; когда он по-детски обижался, что дед всегда был живой, и это “всегда” подменялось у него убегающими картинками его военного деревенского детства; когда он, по-детски же, переряжал в воображении дядю Диккенса в деда; когда он приучал себя к новому родству и гипнотизировался идеей “крови” – тогда же, вдохновленный, достал Лева, минуя отца, сам, проявив непривычную инициативу, по букинистам и фондовым залам, – достал и прочитал некоторые работы деда, благо они теперь относились к будущей его специальности, правда, весьма отдаленно: дед был лингвист, то есть он что-то з н а л и, значит, занимался чем-то более точным, чем та филология, которой посвящал себя Лева; к тому же он был отчасти математик и чуть ли не первый… но тут мы опять вступаем в шаткую область “приоритета”. Лева читал, не все было доступно ему, но он сумел ощутить непривычную свободу и подлинность дедовской мысли и удивиться ей.
Дед оказался не один, рядом с ним и до него были еще люди – Лева знал о них раньше лишь понаслышке, в обзорно-лекционном порядке, как об исказивших, недооценивших, извративших, недопонимавших и т. д., – это были еще самые мягкие формулировки… Леве трудно было поверить, что они чего-то не понимали, потому что для него, например, то, чего они не понимали, – было очевидно, просто, как пареная репа, а вот то, что они понимали, раз писали об этом, – Лева часто совсем не понимал или с великим трудом и напряжением, так что, казалось, слышал в голове шум перегруженно-трущихся мозговых своих частей. Но и опять, прежде всего, оставалось это ощущение подлинности, такое непривычное… Наконец Лева нашел себе одного полегче, им и занялся с удовольствием: этот был эффектен и формален, легок и блестящ (его, кстати, стали воскрешать первым, очень вскоре после Левиного нелегального чтения, а Лева – мог гордиться, что у ж е знает, что д а в н о знает).
Так Лева увлекся некой цельной и все еще полузапретной системой исследования и теперь, хотел или не хотел, в своих учебных делах все поверял ею. Она его убеждала. После такого умственного перенапряжения, как при чтении деда, то есть после того, как он впервые работал головой, – все по учебе вдруг оказалось так примитивно и легко, и программные монографии, что наводили страх на сокурсников своею толщиной и наукообразностью, стали для Левы школьным лепетом. И хотя последовательно проводить полюбившуюся Леве систему было еще невозможно, он надеялся использовать ее хотя бы отчасти – уж больно она нравилась ему – в предстоящей курсовой работе. Одну пользу из семейной драмы, значит, он уже извлек… “Гипотеза деда” еще упрочилась в Леве благодаря этому позитивистскому эффекту. Дед, для Левы не оставалось сомнений, был безусловно Великий Человек, и, в этом звании, очень хорошо получалось так: Дед и Внук…
Лева уже планировал паломничество к нему, самостоятельное, тайное, как бы против воли диктатора-отца, и много намечтал разных картинок, которые своей сладкой и слезящей силой успокаивали его и отодвигали это его намерение в непрестанное будущее… да и как так вдруг?.. почему именно завтра?.. первое движение оказалось давно пропущенным, и Лева уже привыкал к тому, что это он однажды, конечно, сделает, потом, потом… как вдруг позвонил дед.
С сыном разговаривать не пожелал – говорил с Левиной мамой. Все ее простосердечные мольбы простить и прийти, что она просто не имела возможности сказать ему раньше то, что говорит вот сейчас, и т. д., – все это он молча выслушал и заговорил лишь тогда, когда мать уж и не знала, что придумать еще, даже решила, что телефон испорчен… дед сказал, что и не думал на нее сердиться, обид никаких не было, он не кухарка, чтоб обижаться, что она (мать) всегда была дура, но уж больно хороша, невестой он ее запомнил, и была она ему симпатична тогда – что ж теперь-то, через тридцать лет… вот внук пусть придет к нему, завтра, хочется на балбеса посмотреть. Все. Мама сказала, что она не уверена, но он ей показался как бы странным, как бы пьяным…
И то, что дед, такой великий человек, сам позвонил, сам пожелал его видеть, необыкновенно окрылило Леву, и он очень много пообещал себе в этой встрече. Родителей он уже не замечал. Не слушал, что говорила ему мама. На отца не взглянул.
Все доставалось Леве даром.
К деду он шел с новеньким бьющимся сердцем. Что-то далекое и свежее, но как бы всегда имевшееся в нем, приоткрыло свои створки. Он, таясь, заглядывал в эту темную глубину и ничего не различал…
Он мечтал о внезапной дружбе, которая возникнет у них с первого взгляда, минуя отца, как бы над его головой, как бы мост через поколение… и тогда получалось, что не просто внук идет к деду, а специалист – к специалисту, ученик – к учителю, это тешило Леву. Он, за мечтами, как бы совсем забыл, что идет видеть впервые своего родного деда… Тут было несколько изменившееся, но все то же представление о крепком чае и академической камилавочке.
Но и не только это. Было за этим и нечто наивное и идеальное… Те створки, что как бы приоткрылись в нем и где он не различал еще, что же там, – казалось ему, будут сразу видны и понятны деду, и они тогда будут с дедом – как человек и человек! дед поможет открыть их (створки) еще шире и объяснит, что там, и для Левы начнется совсем уж новая жизнь – на самом деле его подлинная, но до сих пор тщательно от него скрытая…
И это все-таки было почти тем же представлением: как идут, старый и молодой, по широкой ковровой лестнице, например, Академии наук – и все им рукоплещут из лож. Леве вдруг показалось, что он опаздывает. Ему хотелось быть пунктуальным. Он поймал такси и приехал много раньше, чем надо.
Деду дали квартиру в новом районе, последние дома… Лева никогда не бывал тут. С удивлением поймал себя на соображении, что, пожалуй, во всю жизнь ни разу не покидал старого города, ж и л в этом музее, ни один его житейский маршрут не пролегал за пределы музейных же проспектов-коридоров и зал-площадей… странно. Он знал об окраинных новостройках понаслышке: что они есть, – но имена их путались в его сознании – вот и сейчас он забыл, как называется район, куда он прибыл: не то Обуховка, не то Пролетарка… снова полез в записную книжку.
У него было такое чувство, что он попал в другой город. Лева отпустил такси, решив прогуляться оставшееся время по этому городу.
…Солнце садилось, дул стылый морозный ветер, и какая-то опасная прозрачность наблюдалась в воздухе. На западе воткнулись в горизонт три острых и длинных облака. Они краснели чуть фиолетово. Туда, в пустоту, уходил пустырь, с бурьянами и свалками: чуть ближе, прямо в поле, было трамвайное кольцо, действительно – кольцо (Лева раньше думал, что выражение это образное, а не буквальное). Оно поблескивало в черной траве, и трамвая не было. Казалось, дома стояли покинутые – такое было безлюдье, и звенела тишина. В закатных лучах, на голубом фоне, отдельные, сахарные, стояли редкие заиндевевшие кубы домов, слепо и безжизненно отблескивая гладкими окнами в закат. Все было как бы приснившимся.
Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений – ветерок, аура… Разыскал дедов подъезд. Стоял под легкомысленным красным козырьком, у дырявой зеленой стеночки, рядом – желтая с синим скамейка для сидения старух, – стоял и стыл. Время тянулось. Ему показалось, что часы его стали, – но они тикали, и секундная стрелка неохотно двигалась по кругу. Леве было странно и непонятно собственное волнение, непривычно: он ни разу словно бы не волновался до сего дня. Вскоре, впрочем, все его чувства сосредоточились в ногах: он надел ради случая новые туфли – они жали. Ноги мерзли и ныли, и Лева стоял как бы не на своих ногах, а на протезах. Наконец Лева догадался войти в подъезд – на лестнице было тепло – Лева прижался к батарее, обнял ее… Тут дверь распахнулась и вбежал неопрятный молодой человек, весь какой-то распахнутый и развевающийся. На бегу резко взглянул на Леву, будто впитал в себя (Лева не успел толком отпрянуть от батареи), – и исчез, летя через две ступени, показав драную пятку. Лева еще постоял, и тут стрелка подползла наконец к заветной черте, – стал подниматься наверх, окончательно смерзшийся, неловко переставляя свои протезные ноги.
Он уже почти поднялся на свою площадку, как дверь в одну из квартир приоткрылась, оттуда вылетел тот же молодой человек, проколол Леву взглядом и обрушился вниз, уже через четыре ступени. В дверях кто-то секунду потемнел ему вслед… И когда дверь прикрылась и залязгали замки, Лева понял, что это была его квартира. То, что он вовремя не окликнул, не попросил не запирать, – расстроило Леву. Хотя, с другой стороны, это хорошо, подумал он, потому что первая их встреча не могла быть такой…
…Открыл ему какой-то незнакомый тип и посмотрел с ровным неузнаванием. “А вдруг?..” – Лева похолодел от предположения. Не могло быть: такое несходство… Этот бритый череп, ватник, возраст самый неопределенный, от пятидесяти до ста, а главное, это красное, щетинистое, задубевшее лицо поражает своей неодухотворенностью… И оно молчит, тупо, лень губы разлепить.
– Простите, я не туда попал… – произнес Лева жалобно и мысленно летел вниз через четыре ступеньки, рушился, как тот молодой человек, хлопала дверь парадной – и он, давясь, глотал холодный воздух… Это надо же: все было продумано, перебраны варианты, затвержены формулировки… а про то, что надо поздороваться, что-то сказать, узнать в лицо, – даже не подумал, словно за порогом было облако.
– Вам кого? – “Ам коо?” – глухо сказало лицо, с трудом выкатив эти два “о”. И когда рот разлепился – лицо стало неожиданно длинным. Это мог быть дед…
– Модеста Платоновича… – “Моэсто, почти Маэстро”, – про себя передразнил себя Лева: у него во рту была кашица ужаса. – Одоевцева, – произнес он звонко, в прямом отчаянии, краснея в темноте.
Под кожей старикова лица что-то пронеслось: замешательство, припоминание, оторопь, успокоение, – очень быстро. Лицо ничего не выражало.
– Проходите. – Старик пропустил Леву в коридор и долго возился, запирая дверь, лязгал и копошился в темноте – там было сложно, с замками… Лева хотел сказать запинчиво, искренне, что он его узнал, узнал! что это только в первую секунду, что он его не узнал, а так он его сразу узнал! (чтобы дед понял, что все еще не так страшно, что его можно узнать, – поведение, вычитанное из вагонной инвалидной песенки об обгоревшем танкисте и его невесте-маме…) – все-таки в Леве было столько внутренней подготовленности к восторгу, что и это несоответствие внешности тут же восхитило его, и он уже чуть ли не радовался, что дед оказался такой.
– Что ж вы не прохо?дите? проходи`те… – невнятно буркнул дед, забрасывая на плечо шарф, вывалившийся, пока он возился у замков. И он толкнул дверь в комнату…
Левин восторг опять захлебнулся – в комнате сидел еще один старик. Он внимательно (Леве почудилась “доброта”) взглянул на вошедших. Этот показался поинтеллигентней, он больше походил на дядю Митю (значит, Лева был прав, подставляя!..) – восторг снова поднимался в Леве. На дядю Митю тот был действительно чем-то похож, только не так чист и элегантен. “Хорошо, хорошо, – дрожал про себя Лева. – Как хорошо, что я там, в коридоре, не сказал…”
– Вы – Лева, – так же невнятно, но скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал первый старик, тщательно прикрыв за собою дверь в комнату и выйдя на середину. Он подволакивал ногу.
Все в Леве заметалось, как заяц. “Как же так!..”
“Я, я!” – хотел бы обрадоваться Лева – и кивнул, сглотнув.
– Садитесь, пожалуйста, – Старик подволок, вместе с ногою, к Леве стул; Лева поздно бросился помогать, когда тот уже протирал сиденье газеткой. “Что вы, не надо!” – хотел взмолиться Лева и отобрал стул – получилось все как-то неловко, грубо. Старик покачнулся: он не только вытирал – вытирая, он опирался о стул, о бумажку… – взглянул на Леву.
– Садитесь. ОН скоро придет… – лицо старика два раза дернулось и снова ничего не выражало. Старик, похожий на дядю Митю, на секунду вскинул на них свой внимательный взгляд и опустил.
“Что же это? что же это!” – лихорадило Леву. Больно оттаивали ноги, и лицо горело.
– Здесь как-то не убрано… – виновато сказал первый старик.
Лева еще опешил и чуть отвлекся: убрано действительно не было. На столе валялась масляная бумага, корки, вскрытая консервная банка – очень неаппетитно. Да и вся комната была до странности нежилой и похожей на общежитие. Будто только вселились, еще не мыли ни полы, ни окна после стройки, не перевезли мебель… Кровать, кое-как застланная, на которой сидел старик, похожий на дядю Митю, стол в объедках, три канцелярских стула и бочонок. Книг не было. В углу, правда, стояло распятие. Не православное, крашеное.
Все молчали. В комнате почти стемнело, а свет не зажигали.
“Я туда попал?!” – хотел уже выкрикнуть Лева, но только поерзал.
Первый старик попробовал убрать со стола, мелкими движениями что-то передвинул, поднял и посмотрел на грязный нож. Швырнул в сердцах обратно на стол…
– Черт! Скоро ОН придет? – метнулся по комнате, подволокнув ногу, уже совсем серый в сумерках, – метнулся тенью.
– ОН же только вышел… – подняв свой внимательный взгляд, оправдываясь, сказал “дядя Митя”.
Вздохнув, старик уселся на стул.
– Простите, – буркнул он Леве.
“Куда он пошел?” – хотел спросить Лева, но решил, что вопрос будет глупым.
“Может, уйти и сказать, что зайду позже?.. Хотя, с другой стороны, почему я сразу так не сказал?.. Теперь поздно”. В голове у Левы путалось, лицо горело (к счастью, в темноте), губы высохли и будто готовы были лопнуть – так стучала в голове кровь. “Может, все-таки один из них?” – бредил Лева. Сходство с дядей Митей и внимательный (“добрый”) взгляд подтверждали, что это мог быть дед: “Если дядя Митя так похож на деда, то тогда сомнений нет, что он мой отец!” Тут же Лева чуть не рассмеялся в голос над самим собой. “Что ж это получается? – издевался он над собой, мысленно трясясь всем телом от кислого смеха. – Будто если дядя Митя – мой отец, то он автоматически становится сыном деду Одоевцеву, а не я, дурак, перестаю быть ему внуком!.. Ха-ха!” Вдоволь поиздевавшись, он подумал, что раз так, сомнений нет: первый старик – и есть его дед… он просто испытывает Леву и вот ведь как переживает, что Лева его не узнает… “Скоро ОН придет!” – как же это еще понимать, как не: “Когда же он, Лева, догадается?” То есть когда он, Лева, придет на самом деле, а не только физически… “Конечно, первый – дед. Он из двух – главнее…” И то, что он в комнате, по поведению, был “главнее”, почти убедило Леву, но и тут он вовремя спохватился не признаться в своем открытии… Потому что… “Господи! у меня, пожалуй, жар. – Лева пощупал голову, рука была такой же горячей, как и лоб, или такой же холодной: он не понял, есть ли у него жар. – Ведь надо же быть таким идиотом! Он же ясно спросил, Лева ли я, и сказал: «Садитесь. ОН скоро придет», – ну и дурак же я!” – мысленно хохотал про себя Лева, покачивая головой, стирал слезу. Однако не мог себя успокоить. Старики молчали, только “дядя Митя” закурил, и уголек иногда освещал его внимательные глаза.
“Что они свет-то не зажигают?!”
Первый старик окаменел, отвернувшись в окно, что-то шептал туда, где еще еле розовела, подернутая пеплом, тоненькая ниточка заката.
“Может, они его убили!.. – вдруг пронзило Леву. – Может, он лежит во второй комнате!” Лева вспомнил мотнувшегося из дверей и обрушившегося по лестнице того молодого человека, и почему-то это стало окончательным доказательством догадки.
“Убили! убили!..” – рыдал про себя Лева. Шел за гробом, падал легкий снег…
Резкий звонок пронзил темноту.
– А! а! – Лева вскочил и не смог закричать, замахал руками, как во сне, когда скатываешься с кровати.
В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества.
То ли Лева справился с жизнью, то ли жизнь – с ним: он успокоился в семейных своих переживаниях очень вскоре. Все-таки по молодости он гораздо более предполагал за собою разных чувств, нежели знал их. Предположение за собою чувств, однако, очень переживательно (почему мы и имеем возможность утверждать, что наша молодежь “очень эмоциональна”), потому что не имеет под собою почвы, кроме самой природы, которую как раз одну и не предполагает… Эти гипотетические чувства сильны еще потому, что сил много. Лева отработал “гипотезу второго отца”, оставалась еще “гипотеза деда”. У сына родился отец. У внука рождается дед.
…Когда в семье пошли разговоры о деде, еще до его возвращения; когда Лева всматривался в его прекрасные фоточерты и ссорился с отцом, гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы несшее в себе те же черты; когда он по-детски обижался, что дед всегда был живой, и это “всегда” подменялось у него убегающими картинками его военного деревенского детства; когда он, по-детски же, переряжал в воображении дядю Диккенса в деда; когда он приучал себя к новому родству и гипнотизировался идеей “крови” – тогда же, вдохновленный, достал Лева, минуя отца, сам, проявив непривычную инициативу, по букинистам и фондовым залам, – достал и прочитал некоторые работы деда, благо они теперь относились к будущей его специальности, правда, весьма отдаленно: дед был лингвист, то есть он что-то з н а л и, значит, занимался чем-то более точным, чем та филология, которой посвящал себя Лева; к тому же он был отчасти математик и чуть ли не первый… но тут мы опять вступаем в шаткую область “приоритета”. Лева читал, не все было доступно ему, но он сумел ощутить непривычную свободу и подлинность дедовской мысли и удивиться ей.
Дед оказался не один, рядом с ним и до него были еще люди – Лева знал о них раньше лишь понаслышке, в обзорно-лекционном порядке, как об исказивших, недооценивших, извративших, недопонимавших и т. д., – это были еще самые мягкие формулировки… Леве трудно было поверить, что они чего-то не понимали, потому что для него, например, то, чего они не понимали, – было очевидно, просто, как пареная репа, а вот то, что они понимали, раз писали об этом, – Лева часто совсем не понимал или с великим трудом и напряжением, так что, казалось, слышал в голове шум перегруженно-трущихся мозговых своих частей. Но и опять, прежде всего, оставалось это ощущение подлинности, такое непривычное… Наконец Лева нашел себе одного полегче, им и занялся с удовольствием: этот был эффектен и формален, легок и блестящ (его, кстати, стали воскрешать первым, очень вскоре после Левиного нелегального чтения, а Лева – мог гордиться, что у ж е знает, что д а в н о знает).
Так Лева увлекся некой цельной и все еще полузапретной системой исследования и теперь, хотел или не хотел, в своих учебных делах все поверял ею. Она его убеждала. После такого умственного перенапряжения, как при чтении деда, то есть после того, как он впервые работал головой, – все по учебе вдруг оказалось так примитивно и легко, и программные монографии, что наводили страх на сокурсников своею толщиной и наукообразностью, стали для Левы школьным лепетом. И хотя последовательно проводить полюбившуюся Леве систему было еще невозможно, он надеялся использовать ее хотя бы отчасти – уж больно она нравилась ему – в предстоящей курсовой работе. Одну пользу из семейной драмы, значит, он уже извлек… “Гипотеза деда” еще упрочилась в Леве благодаря этому позитивистскому эффекту. Дед, для Левы не оставалось сомнений, был безусловно Великий Человек, и, в этом звании, очень хорошо получалось так: Дед и Внук…
Лева уже планировал паломничество к нему, самостоятельное, тайное, как бы против воли диктатора-отца, и много намечтал разных картинок, которые своей сладкой и слезящей силой успокаивали его и отодвигали это его намерение в непрестанное будущее… да и как так вдруг?.. почему именно завтра?.. первое движение оказалось давно пропущенным, и Лева уже привыкал к тому, что это он однажды, конечно, сделает, потом, потом… как вдруг позвонил дед.
С сыном разговаривать не пожелал – говорил с Левиной мамой. Все ее простосердечные мольбы простить и прийти, что она просто не имела возможности сказать ему раньше то, что говорит вот сейчас, и т. д., – все это он молча выслушал и заговорил лишь тогда, когда мать уж и не знала, что придумать еще, даже решила, что телефон испорчен… дед сказал, что и не думал на нее сердиться, обид никаких не было, он не кухарка, чтоб обижаться, что она (мать) всегда была дура, но уж больно хороша, невестой он ее запомнил, и была она ему симпатична тогда – что ж теперь-то, через тридцать лет… вот внук пусть придет к нему, завтра, хочется на балбеса посмотреть. Все. Мама сказала, что она не уверена, но он ей показался как бы странным, как бы пьяным…
И то, что дед, такой великий человек, сам позвонил, сам пожелал его видеть, необыкновенно окрылило Леву, и он очень много пообещал себе в этой встрече. Родителей он уже не замечал. Не слушал, что говорила ему мама. На отца не взглянул.
Все доставалось Леве даром.
К деду он шел с новеньким бьющимся сердцем. Что-то далекое и свежее, но как бы всегда имевшееся в нем, приоткрыло свои створки. Он, таясь, заглядывал в эту темную глубину и ничего не различал…
Он мечтал о внезапной дружбе, которая возникнет у них с первого взгляда, минуя отца, как бы над его головой, как бы мост через поколение… и тогда получалось, что не просто внук идет к деду, а специалист – к специалисту, ученик – к учителю, это тешило Леву. Он, за мечтами, как бы совсем забыл, что идет видеть впервые своего родного деда… Тут было несколько изменившееся, но все то же представление о крепком чае и академической камилавочке.
Но и не только это. Было за этим и нечто наивное и идеальное… Те створки, что как бы приоткрылись в нем и где он не различал еще, что же там, – казалось ему, будут сразу видны и понятны деду, и они тогда будут с дедом – как человек и человек! дед поможет открыть их (створки) еще шире и объяснит, что там, и для Левы начнется совсем уж новая жизнь – на самом деле его подлинная, но до сих пор тщательно от него скрытая…
И это все-таки было почти тем же представлением: как идут, старый и молодой, по широкой ковровой лестнице, например, Академии наук – и все им рукоплещут из лож. Леве вдруг показалось, что он опаздывает. Ему хотелось быть пунктуальным. Он поймал такси и приехал много раньше, чем надо.
Деду дали квартиру в новом районе, последние дома… Лева никогда не бывал тут. С удивлением поймал себя на соображении, что, пожалуй, во всю жизнь ни разу не покидал старого города, ж и л в этом музее, ни один его житейский маршрут не пролегал за пределы музейных же проспектов-коридоров и зал-площадей… странно. Он знал об окраинных новостройках понаслышке: что они есть, – но имена их путались в его сознании – вот и сейчас он забыл, как называется район, куда он прибыл: не то Обуховка, не то Пролетарка… снова полез в записную книжку.
У него было такое чувство, что он попал в другой город. Лева отпустил такси, решив прогуляться оставшееся время по этому городу.
…Солнце садилось, дул стылый морозный ветер, и какая-то опасная прозрачность наблюдалась в воздухе. На западе воткнулись в горизонт три острых и длинных облака. Они краснели чуть фиолетово. Туда, в пустоту, уходил пустырь, с бурьянами и свалками: чуть ближе, прямо в поле, было трамвайное кольцо, действительно – кольцо (Лева раньше думал, что выражение это образное, а не буквальное). Оно поблескивало в черной траве, и трамвая не было. Казалось, дома стояли покинутые – такое было безлюдье, и звенела тишина. В закатных лучах, на голубом фоне, отдельные, сахарные, стояли редкие заиндевевшие кубы домов, слепо и безжизненно отблескивая гладкими окнами в закат. Все было как бы приснившимся.
Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений – ветерок, аура… Разыскал дедов подъезд. Стоял под легкомысленным красным козырьком, у дырявой зеленой стеночки, рядом – желтая с синим скамейка для сидения старух, – стоял и стыл. Время тянулось. Ему показалось, что часы его стали, – но они тикали, и секундная стрелка неохотно двигалась по кругу. Леве было странно и непонятно собственное волнение, непривычно: он ни разу словно бы не волновался до сего дня. Вскоре, впрочем, все его чувства сосредоточились в ногах: он надел ради случая новые туфли – они жали. Ноги мерзли и ныли, и Лева стоял как бы не на своих ногах, а на протезах. Наконец Лева догадался войти в подъезд – на лестнице было тепло – Лева прижался к батарее, обнял ее… Тут дверь распахнулась и вбежал неопрятный молодой человек, весь какой-то распахнутый и развевающийся. На бегу резко взглянул на Леву, будто впитал в себя (Лева не успел толком отпрянуть от батареи), – и исчез, летя через две ступени, показав драную пятку. Лева еще постоял, и тут стрелка подползла наконец к заветной черте, – стал подниматься наверх, окончательно смерзшийся, неловко переставляя свои протезные ноги.
Он уже почти поднялся на свою площадку, как дверь в одну из квартир приоткрылась, оттуда вылетел тот же молодой человек, проколол Леву взглядом и обрушился вниз, уже через четыре ступени. В дверях кто-то секунду потемнел ему вслед… И когда дверь прикрылась и залязгали замки, Лева понял, что это была его квартира. То, что он вовремя не окликнул, не попросил не запирать, – расстроило Леву. Хотя, с другой стороны, это хорошо, подумал он, потому что первая их встреча не могла быть такой…
…Открыл ему какой-то незнакомый тип и посмотрел с ровным неузнаванием. “А вдруг?..” – Лева похолодел от предположения. Не могло быть: такое несходство… Этот бритый череп, ватник, возраст самый неопределенный, от пятидесяти до ста, а главное, это красное, щетинистое, задубевшее лицо поражает своей неодухотворенностью… И оно молчит, тупо, лень губы разлепить.
– Простите, я не туда попал… – произнес Лева жалобно и мысленно летел вниз через четыре ступеньки, рушился, как тот молодой человек, хлопала дверь парадной – и он, давясь, глотал холодный воздух… Это надо же: все было продумано, перебраны варианты, затвержены формулировки… а про то, что надо поздороваться, что-то сказать, узнать в лицо, – даже не подумал, словно за порогом было облако.
– Вам кого? – “Ам коо?” – глухо сказало лицо, с трудом выкатив эти два “о”. И когда рот разлепился – лицо стало неожиданно длинным. Это мог быть дед…
– Модеста Платоновича… – “Моэсто, почти Маэстро”, – про себя передразнил себя Лева: у него во рту была кашица ужаса. – Одоевцева, – произнес он звонко, в прямом отчаянии, краснея в темноте.
Под кожей старикова лица что-то пронеслось: замешательство, припоминание, оторопь, успокоение, – очень быстро. Лицо ничего не выражало.
– Проходите. – Старик пропустил Леву в коридор и долго возился, запирая дверь, лязгал и копошился в темноте – там было сложно, с замками… Лева хотел сказать запинчиво, искренне, что он его узнал, узнал! что это только в первую секунду, что он его не узнал, а так он его сразу узнал! (чтобы дед понял, что все еще не так страшно, что его можно узнать, – поведение, вычитанное из вагонной инвалидной песенки об обгоревшем танкисте и его невесте-маме…) – все-таки в Леве было столько внутренней подготовленности к восторгу, что и это несоответствие внешности тут же восхитило его, и он уже чуть ли не радовался, что дед оказался такой.
– Что ж вы не прохо?дите? проходи`те… – невнятно буркнул дед, забрасывая на плечо шарф, вывалившийся, пока он возился у замков. И он толкнул дверь в комнату…
Левин восторг опять захлебнулся – в комнате сидел еще один старик. Он внимательно (Леве почудилась “доброта”) взглянул на вошедших. Этот показался поинтеллигентней, он больше походил на дядю Митю (значит, Лева был прав, подставляя!..) – восторг снова поднимался в Леве. На дядю Митю тот был действительно чем-то похож, только не так чист и элегантен. “Хорошо, хорошо, – дрожал про себя Лева. – Как хорошо, что я там, в коридоре, не сказал…”
– Вы – Лева, – так же невнятно, но скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал первый старик, тщательно прикрыв за собою дверь в комнату и выйдя на середину. Он подволакивал ногу.
Все в Леве заметалось, как заяц. “Как же так!..”
“Я, я!” – хотел бы обрадоваться Лева – и кивнул, сглотнув.
– Садитесь, пожалуйста, – Старик подволок, вместе с ногою, к Леве стул; Лева поздно бросился помогать, когда тот уже протирал сиденье газеткой. “Что вы, не надо!” – хотел взмолиться Лева и отобрал стул – получилось все как-то неловко, грубо. Старик покачнулся: он не только вытирал – вытирая, он опирался о стул, о бумажку… – взглянул на Леву.
– Садитесь. ОН скоро придет… – лицо старика два раза дернулось и снова ничего не выражало. Старик, похожий на дядю Митю, на секунду вскинул на них свой внимательный взгляд и опустил.
“Что же это? что же это!” – лихорадило Леву. Больно оттаивали ноги, и лицо горело.
– Здесь как-то не убрано… – виновато сказал первый старик.
Лева еще опешил и чуть отвлекся: убрано действительно не было. На столе валялась масляная бумага, корки, вскрытая консервная банка – очень неаппетитно. Да и вся комната была до странности нежилой и похожей на общежитие. Будто только вселились, еще не мыли ни полы, ни окна после стройки, не перевезли мебель… Кровать, кое-как застланная, на которой сидел старик, похожий на дядю Митю, стол в объедках, три канцелярских стула и бочонок. Книг не было. В углу, правда, стояло распятие. Не православное, крашеное.
Все молчали. В комнате почти стемнело, а свет не зажигали.
“Я туда попал?!” – хотел уже выкрикнуть Лева, но только поерзал.
Первый старик попробовал убрать со стола, мелкими движениями что-то передвинул, поднял и посмотрел на грязный нож. Швырнул в сердцах обратно на стол…
– Черт! Скоро ОН придет? – метнулся по комнате, подволокнув ногу, уже совсем серый в сумерках, – метнулся тенью.
– ОН же только вышел… – подняв свой внимательный взгляд, оправдываясь, сказал “дядя Митя”.
Вздохнув, старик уселся на стул.
– Простите, – буркнул он Леве.
“Куда он пошел?” – хотел спросить Лева, но решил, что вопрос будет глупым.
“Может, уйти и сказать, что зайду позже?.. Хотя, с другой стороны, почему я сразу так не сказал?.. Теперь поздно”. В голове у Левы путалось, лицо горело (к счастью, в темноте), губы высохли и будто готовы были лопнуть – так стучала в голове кровь. “Может, все-таки один из них?” – бредил Лева. Сходство с дядей Митей и внимательный (“добрый”) взгляд подтверждали, что это мог быть дед: “Если дядя Митя так похож на деда, то тогда сомнений нет, что он мой отец!” Тут же Лева чуть не рассмеялся в голос над самим собой. “Что ж это получается? – издевался он над собой, мысленно трясясь всем телом от кислого смеха. – Будто если дядя Митя – мой отец, то он автоматически становится сыном деду Одоевцеву, а не я, дурак, перестаю быть ему внуком!.. Ха-ха!” Вдоволь поиздевавшись, он подумал, что раз так, сомнений нет: первый старик – и есть его дед… он просто испытывает Леву и вот ведь как переживает, что Лева его не узнает… “Скоро ОН придет!” – как же это еще понимать, как не: “Когда же он, Лева, догадается?” То есть когда он, Лева, придет на самом деле, а не только физически… “Конечно, первый – дед. Он из двух – главнее…” И то, что он в комнате, по поведению, был “главнее”, почти убедило Леву, но и тут он вовремя спохватился не признаться в своем открытии… Потому что… “Господи! у меня, пожалуй, жар. – Лева пощупал голову, рука была такой же горячей, как и лоб, или такой же холодной: он не понял, есть ли у него жар. – Ведь надо же быть таким идиотом! Он же ясно спросил, Лева ли я, и сказал: «Садитесь. ОН скоро придет», – ну и дурак же я!” – мысленно хохотал про себя Лева, покачивая головой, стирал слезу. Однако не мог себя успокоить. Старики молчали, только “дядя Митя” закурил, и уголек иногда освещал его внимательные глаза.
“Что они свет-то не зажигают?!”
Первый старик окаменел, отвернувшись в окно, что-то шептал туда, где еще еле розовела, подернутая пеплом, тоненькая ниточка заката.
“Может, они его убили!.. – вдруг пронзило Леву. – Может, он лежит во второй комнате!” Лева вспомнил мотнувшегося из дверей и обрушившегося по лестнице того молодого человека, и почему-то это стало окончательным доказательством догадки.
“Убили! убили!..” – рыдал про себя Лева. Шел за гробом, падал легкий снег…
Резкий звонок пронзил темноту.
– А! а! – Лева вскочил и не смог закричать, замахал руками, как во сне, когда скатываешься с кровати.