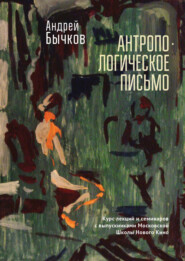По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Переспать с идиотом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И тогда он сказал:
– Ну что же… Всего вам самого доброго.
И разорвал связь.
Снова он был один, и снова он был никому не нужен. Он был заброшен по-прежнему в своей заброшенности.
7
И тогда профессор сам себе намазал на хлеб и сказал: – Хм… Бронкси.
Был он вполне реальный, в отличие от некоторых, человек, и по понедельникам занимался боксом. А был как раз понедельник. Профессор пораньше освободился от зачетов, и чтобы не терять времени, уже быстро проглотил сыр, положил боксерские перчатки в спортивную сумочку и отправился избивать других мускулистых мужчин, которые даже и не догадывались, что их избивает профессор.
Но – «хм… Бронкси» – все не шло из головы его. По ведомости она была Бронниковой Ксенией, но студенты называли ее Бронкси. И теперь ему почему-то страшно захотелось запендюрить Бронкси по полной. Зазудело на троллейбусной остановке, где профессор, оттолкнув какую-то бабу, влез первым в переполненный салон.
Да нет же, он никого там не лапал, он никогда не был прижималой, у него был свой внутренний императив и был свой орган мозга, смотрящий через органы глаз и через троллейбусные стекла на сияние солнца. И можно было бы даже сказать, что профессор с детства никогда не моргал, приучая себя к нестерпимому сиянию вещей, как и к расплавленному озверению ума, что и сам Платон был борец, голый по пояс, и, между прочим, даже побеждал на Истмийских общегреческих играх.
«Бронкси… хм…» – однако зудело и продолжало зиять, что профессору даже захотелось дать кому-нибудь в зубы, и чтобы она, Бронкси, увидела, узрела это давание в зубы этим его огромным кулачищем.
Нет, нет, он не признавался, брр-р-рр, не признавался, что движется куда-то вниз, что под троллейбусом уже разверзается какое-то зыбкое нечто, что как будто это разъезжается даже и не нечто, а ничто, в чем ничтожится он сам. Наоборот, он вспоминал, как на прошлой тренировке двинул тренера в челюсть так, что тот отлетел в красный квадрат. Тренер, чемпион мира среди юниоров, двадцать лет спустя, как Александр Дюма, и чемпион Европы, десять лет спустя, среди клубов железнодорожников, не ожидал такого мощного продвижения по дуге, красивого такого удара, озаряющего звоном. «Как голубое, – говорил тренер потом в раздевалке, – как будто колоколом накрыло». Рассказывал, хорошо помывшись под душем, подраив подмышками железной мочалкой, подаренной ему брюссельскими железнодорожниками. В соседней кабинке мылся профессор под струями и тер, скреб ногтями свою волосатую жестяную грудь, потому что мочалку забыл и теперь только мылился мылом и гоготал от удовольствия мыслить иначе под струями, что тренер его истинно любил, и даже в его ударе, что тренер Александр одобрил дугу, которой сам же его и научил, что у Женьки (а в секции профессор был просто Женькой, это за пределами ее он именовался как Евгений Леонардович), так вот у Женьки очень сильная левая дуга, гораздо сильнее правой, и что боковым слева Женька мог бы завалить и слона, если бы, конечно, он пошел в зоопарк и ему бы открыли клетку и разрешили драться со слоном. Так шутил тренер и под струями, шутя, все не мог очухаться от Женькиного удара. А профессор рядом, в струях принюхивался к подмышкам своим, что все еще пахли, потому что волосы подмышками были, как и у тренера, как железные, и ногтями без мочалки было трудно сдирать с них пот мужского накопленного бокса. Во всяком случае, это было яркое ощущение попадания, куда надо по дуге, и от ощущения этого вполне можно было бы восходить, как какой-нибудь Сезанн, к искусству художественной мысли.
И тут пол троллейбуса опять задрожал мучительно, что почему-то «Бронкси, хм, Бронкси» вновь завращалось и закрутилось вокруг профессора, и мучительно соблазнительные ножки ее, и голое на животике, и остренький носик, что сама такая, наверняка, мягкая, но со скрытой остренькой изюминкой, о которую хочется порезаться с наслаждением, как однажды в детстве профессор порезался об осколок стекла и смотрел, как вытекает кровь его из большого пальца, что ему захотелось порезать себе и грудь, и локти и изрезаться всему самому, чтобы что-то доказать своим школьным товарищам. И тут уже дало вертикально, что ясный ум профессора осознал, что это же троллейбус как-то неправильно тормозит, что его заносит по какой-то огромной дуге, что все сыпятся в проходе, стоящие на сидящих, и что какая-то огромная баба с огромным раскрытым от ужаса ртом, дико дыша, уже наваливается него самого, сука, со своим ртом, со своими свиными глазками и давит, наваливаясь огромными паровозными грудями, словно бы была женой железнодорожника.
Этот был странный, словно бы солнечный, удар. Бабу смахнуло, Евгений Леонардович оказался лицом к лицу со своим отражением на троллейбусном стекле, сквозь которое открывалась бесконечность блеска машинных крыш, как будто некая колония жуков организованно переселялась на закат солнца, организованно и в то же время бессмысленно. Пол троллейбуса, выскальзывающий вдруг из-под его ног (вместе с его привычным образом мысли), словно бы приоткрывал ему и другую возможность – помыслить сразу все: и слепую гигантскую волю императоров, заворачивающих дорогу на закат, и желание видеть Бронкси, приподнимающее его, как на тонких спицах последних солнечных лучей, чтобы там, в глубине его желания, открылось и нечто другое, гораздо более верное, не только эротизм, не только близость, а как молния в сердце, как неизбежная гибель в авиакатастрофах, ибо многие в падающих и еще не разбившихся авиалайнерах умирают от инфаркта, а еще и в переворачивающихся троллейбусах… и весь этот хаос и сумятица чувств, сумбурных мыслей, желаний и чистой-чистой любви, а не только про раздвинутые ножки, и что есть еще и глубокий кристальный взгляд, что надо взять и привязать сердце Бронкси, как должно быть разрушено, потому что речь о чем-то большем, а не только солнечный удар, потому что оседание без времени, и мир раскрывается один раз, и смерть часто совпадает с каким-то странным звуком, ибо человек, воздетый сейчас, воздвигнутый сейчас на пантографах, вознесенный в искры разорванных проводов, в котором Евгений Леонардович вдруг с ужасом узнал аспиранта, того самого аспиранта с соседней кафедры, который всегда с ним ввязывался в спор, пытаясь доказать, что нет никаких дословных истин, и что речь это и есть истина, и вот сейчас профессор не мог не восторжествовать, ведь сейчас, без слов, он так ясно видел взгляд бедняжки, устремленный в глубину его, Евгения Леонардовича глаз, что как будто ток уже бежит и дрожит ток, дергается и вибрирует и в нем самом с каким-то странным звуком, ток неимоверной открывающейся глубины и ясности, как именно нечто бессловесное, играющее само по себе, со всеми и со всем, как букварь без букв, как играет сейчас и с ним, с Евгением Леонардовичем посредством этого взгляда и звука, и аспиранта, рушащегося обратно на тротуар, разбивающегося об асфальт, в разверзающееся пространство их обоюдного, в обе стороны вглядывания, что ничего и нет, нет никаких слов, и только промежуток, по ту сторону каждого, как в горах, как озера высокогорные, что уже поднялись из глубин и что уже изливаются в одни реки.
8
Этот тотальный бессвязный какой-то опыт, однако, предопределил и выбор театрального представления, на которое профессор как-то, недели через три, решился-таки пригласить Бронкси. Он хотел пригласить ее на какой-нибудь классический спектакль, ясный и солнечный, где действует герой, который даже если и погибает, то, конечно же, ради своей чистой и ясной любви. Это в реальности чье-то смятое, подмятое под себя в постели тело, является словно бы добычей охотника, ибо оно – мотив другого, феноменального мира, мира, так сказать, кожи, где идеальному места нет, потому что здесь – на земле – идея, ну, например, идея любви часто проявляет себя как крэкс-фэкс-пэкс-мэкс некоего Карабаса Барабаса и одноместного Буратино женского рода, пусть даже и с длинным носом, что не так важно, ибо попал, как попадает в лузу и шар в бильярде, как в боксе лицо, что секс – это некая современность, где все друг в друга попадают, как в пальто, которое нравится, оно модное, и мы тоже попадаем в его рукава, и его можно носить, а не только разглядывать, но и вместе появляться в фейсбуке на фотографиях втроем с молодой женщиной и с пальто, с ее слегка удлиненным, польским, как у лисы, носом, аспиранткой-по-ногам, как у Канта, потому что все, в боксе, решают ноги, кто двигается быстрее, тот и выигрывает, да и сам бокс и его, бокса, тренер Александр, посланный в нокаут собственным учеником, что его послали в нокаут, и он попал в нокаут, и вдруг, как разъезжающаяся засада, как из кустов, разъезжающихся в разные стороны, как ворота, что это все не более, чем театральная декорация, вимбильданс бреда, пусть и нашего, русского, где все друг друга выдумывают, даже какая-нибудь и опера, куда он, профессор, уже почти решился ее, Бронкси, пригласить, чтобы завоевать ее сердце как мужчина, а не как профессор, нарушить нормы морали, что он старше ее на тридцать лет, и разменять это попадание на эротику, и, почти уже покупая на «Отелло», как на крик смертельно раненного любовью самца, предпочитая «Отелло» «Королю Лиру», что, может быть, и слегка не сойдутся концы, но зато там будет много про любовь, Евгений Леонардович уже доставал из кармана тысячные купюры русских денег с вытесненными православными храмами и с электронной защитой, как вдруг ему словно бы кто-то шепнул, тот самый, взвившийся на пантографах аспирант, что это опера про негра, а для нас, для русских нужна пьеса про русских, что и взгляд профессора сам собой обратился вниз на незаметную афишку, где было написано, что в воскресенье – вольная инсценировка по мотивам русской классики – Достоевского, Гоголя и Толстого – и что играть ее будут актеры непрофессиональные, и даже не вполне нормальные, что они как бы слегка не в себе, и потому содержатся под присмотром в неких местах, откуда их иногда выпускают на спектакли, что профессор сразу и вспомнил, как про этот театр с жаром рассказывали ему на кафедре два других профессора, а, точнее, профессор и профессорша, карликовые такие добряки с огромными лицами, напоминающими дачные лопухи, да-да, те самые профессор с профессоршей, тихо и усато разбирающиеся в западном искусстве, и вдруг громко, со слюнцой, с отчаянной жестикуляцией пальцев, с твердыми громкими сморканиями в носовые платки, так жарко, огненно, так по-русски вдруг начавшие обсуждать в коридоре этот спектакль, что, конечно, Евгению Леонардовичу надо было купить билеты и пригласить Бронкси именно на него, и как будто в стройное повествование, речь которого придумал Платон, в гармоничное объяснение благого целого, как ветер, уже врывался какой-то странный русский беспорядок, искажающий и мысль Платона и мысли ее толкователей, задувая, как из щели каким-то непрошенным сквозняком, что где-то уже как будто и пели, и гремели, и плясали и отдувались на бобах, и что даже, как будто, и сам Платон, испуганный и слегка побледневший, вылезая из автомобиля, вдруг бестолково и непонятно попытался вернуться опять к разговору о каком-то третьем начале (о каком, кстати, отвечала Бронкси на билет), имя которого – хора – можно было бы перевести с древнегреческого как окрестность или место, еще лучше – местность, в данном случае, конечно же, русская.
9
Сергей мертв, а та женщина, с которой Сергей мог бы его познакомить, – она могла бы сейчас сидеть рядом, совсем близко, так близко, что Егор мог бы замереть, странная радость, что она на самом деле здесь, и тогда – никакого спектакля и не надо. Чья-то пьеса, чье-то воображение – всего лишь предлог, чтобы она, Бронкси, была сейчас здесь. Как она оборачивается, как смотрит – тот же взгляд, что и тогда.
Но сейчас он был один, и рядом – лишь пустое кресло с черными блестящими подлокотниками. Впереди – ярко освещенная сцена, на которую уже выходили актеры. Это были странные актеры – их карликовые тела или, наоборот, непропорционально длинные; маленькие головы с какими-то детскими лицами, и при этом все они взрослые люди.
«Да, этот спектакль и должны играть настоящие дауны. Это же театр даунов. Вот кому действительно не повезло».
Они выходили молча на сцену и молча останавливались, стояли перед рампой и смотрели в зал, разглядывая сидящих, как будто всматриваясь в темноту леса. Они были, как какие-то испорченные люди и – одновременно – как ангелы.
Егор был глубоко поражен. Те, кто молча стоял сейчас перед ним – а ведь они были идиотами – именно они как будто и были настоящими, именно они знали нечто, что никак не мог разгадать он.
В пьесе, которую они играли, похоже, не было никакого сюжета. Там кто-то воскресал и все никак не мог воскреснуть. Делал вид, что умирает, и все никак не мог умереть. Это было какое-то абсурдное действие, как было написано в афишке – «вольное переложение по мотивам русской классики». Устройство сцены механически двигалось, тряслось, и временами даже грохотало. Иногда наливалась, как в мелкий бассейн – почти сантиметров на десять, как отмечал про себя Егор – вода, а потом по периметру зажигался настоящий огонь. Персонажи, мужчины и женщины, все время пытались обнаружить друг друга на ощупь, они менялись парами, произносили какие-то монологи, обрывки цитат. Все это действие производило на Егора впечатление чудовищное, здесь, конечно, узнавался то Достоевский, то Гоголь, то даже Толстой. Режиссер как будто был озабочен лишь тем, чтобы найти какую-то новую интерпретацию, чтобы главный герой мог окончательно и бесповоротно умереть. Было во всем этом какое-то надругательство. Но, в то же время, и что-то настолько пронзительное – ведь актеры были как дети – что-то настолько трагическое в этом своем абсурдном комизме – ведь актеры были даунами – что Егор нестерпимо почувствовал подступающий к горлу комок слез.
Его особенно поразил главный герой, лицо которого ему показалось до странности знакомо. Егор мучительно хотел вспомнить, кого же оно ему напоминает это лицо, но что-то упорно мешало ему, как будто он в тоже самое время вспомнить и не хотел, как будто что-то, какое-то воспоминание, строго-настрого запрещало ему вспоминать. Актер был высокий молодой человек с непропорционально длинными руками, с широкими белыми пальцами и с каким-то нервическим лицом. Он произносил монологи. И – как можно было догадаться, – то Кириллова, то Ивана Ильича, а то почему-то Хлестакова. И герой, которого актер изображал, все непременно хотел умереть, как он жаловался одной из карлиц в розовых панталонах, которая кружила вокруг него не то как невеста, не то как мать. И во всем этом просто и надменно сиял какой-то чудовищный фарс, где концы часто не сходились с концами. Как будто режиссер хотел все же выстроить на сцене действие внятное, но у него ничего не получалось, и он снова начинал кружить все с начала и снова бросал, как будто все это было обречено на провал. Это, очевидно, было пародией на русскую жизнь, и это выглядело отвратительно, особенно в сценах, где карлики и карлицы целовались, где высокие и низкие дауны неуклюже обнимали друг друга и неумело и бездарно пытались танцевать, изображая человеческое, слишком человеческое. Но в то же время, как с ужасом осознавал Егор, во всем этом извращении была и какая-то до чудовищности чистая правда. В этом абсурдном трагизме, который режиссер так злонамеренно пытался выдавать за комизм, пылало и сияло действительно что-то, что только и могло ранить, обжечь, и что действительно обжигало.
«Потом их, этих ангелов, этих невинных, которых заставляют делать все это, потом крепкие санитары, которые ждут за сценой, после окончания представления санитары погрузят их в мрачный грязный фургон и отвезут обратно в сумасшедший дом, где эти невинные будут снова продлевать свое скорбное существование в закупоренной закрытой палате, из которой их даже не будут выпускать, и где они, как в тюрьме, должны будут и завтракать, и обедать и справлять нужду все вместе, как будто они и не ангелы, как будто они и не люди. Но, когда их не видит никто, когда санитары уйдут спать, они разыграют, наконец, свою настоящую пьесу…»
Он вернулся домой в раздрайве. Он даже и выбрал именно это слово для определения себя – раздрайв было слово нерусское, и он выбрал его с какой-то намеренно садистской насмешкой, что никогда, нет, никогда он не сможет убить себя, как попытался это сделать на сцене главный герой. Но что ведь и ему, Егору, подчас так упоительно играть с этой иллюзией, как будто именно она, эта иллюзия, и помогает ему оставаться в живых. Он посмотрел на флакон с «элениумом», который как-то оставила ему мать, чтобы он лучше засыпал (флакон словно бы нарочно попался ему на глаза). Набрать горсть и проглотить все разом, запить водой, застрелиться, открыть газ, выброситься из окна, повеситься на собственных подтяжках, аккуратно завернув их вокруг горла, да здравствует Иван-Ильич-Кириллов-Хлестаков…
10
– Ты как-то слишком мало ешь, – сказала мать, когда Егор пришел к ней пообедать на следующий день. – У тебя не болит глаз?
– Нет, не болит.
– Но ты все же должен показаться врачу, потому что у нас наследственная глаукома.
– Или катаракта.
– Не язви.
– Я не язвлю.
– Ну что ты упрямишься? Тебе, возможно, пропишут очки в любом случае.
– И, что, я буду ходить по улице в очках?
– А что? Ты стесняешься?
И он приступил к супу, глухо раздражаясь. Зачем он пришел сюда? Всегда одно и то же, и ничего нового, сейчас она еще спросит, а как у него дела на этом фронте, ведь она так любит раздирать раны, копаться в болячках, она же уверена, что надо страдать и при этом бороться со своим страданием, как бы это ни было трудно. И она и спросила, как он ожидал:
– Ну, нашел себе бабенку?
Егор застыл, как будто его ударили по голове. Она спросила его так, словно теперь он был партнер по какой-то игре. Ведь помимо страданий в этом мире должны быть еще и развлечения. Он не догадался – она спросила его, чтобы доставить ему хоть какую-нибудь радость. Разве не может он позволить себе поиграть с самыми началами любви? Но и она не догадалась, как покоробила Егора эта ее фраза, какое страдание причинило ему это слово, как будто она, его мать, и была эта бабенка, и сейчас вульгарно обнажалась перед ним. Он вдруг осознал все ту же никчемность. Зачем он приходит сюда? Она смотрела сейчас на него, как на молодого мужчину. И ему было горько и стыдно. Как манерно и игриво она улыбается, думал он, как, наверное, она улыбается и тем лысым и пожилым мужичкам у себя на работе, где она сидит на стуле или встает и переносит бумажки из кабинета в кабинет, и где эти мужички, и где вся эта их строгость и официальность, и даже весь деловой распорядок сам по себе, как будто все это пропитано и пронизано каким-то перезрелым соком, соком какой-то вульгарности, что как будто и сидят-то они на стульях в этом, как теперь принято выражаться open space, не как коллеги, и ходят по коридорам из кабинета в кабинет не как сотрудники, а как бабёнки и мужички, которые всегда тайно голые, и которые и предаются в порочном воображении своем каким-то, даже и не всегда, наверное, приятным наслаждениям, и что эти воображаемые, пусть даже и болезненные, наслаждения необходимы, и что им надо предаваться по какому-то странному закону и здесь, в офисе, и закон этот должен исполняться над каждым, поименно, не исключая и начальников, и чтобы высшие начальники делали это в воображении своем над низшими, а над высшими – те, кто еще выше них, чтобы, в конце концов, каждый получил свое разрешение от бремени, свою разрядку, после которой ему будет отпущено его незримое принятие вины, его отвращения к себе и к другим, и именно это и будет наказанием. И когда наказание будет уже позади, можно будет пообещать себе, что этого больше не повторится, что помимо порока есть все же и сознание своего достоинства, чтобы, по крайней мере, ничего такого себе не представлять. Потому что есть другая – своя и только своя истинная жизнь, и что хоть эта жизнь может быть не испачкана, не опозорена и не опорочена никакими представлениями.
Он все еще не мог поднять глаз, как будто она, его мать, и вправду сидела перед ним голой. Мучительное воспоминание, – распаренное и разваренное, как лук, от которого он всегда так содрогался, когда обнаруживал его в тарелке супа, будучи ребенком, – закрывало сейчас глаза пеленой, он вдруг вспомнил, как классе в пятом, когда он приходил из школы и садился за обед с ней, со своей матерью, как он иногда сползал под стол, словно бы уронил хлеб и должен теперь его поднять, а на самом деле, чтобы поглядеть в ее расставленные ляжки. Он вспомнил и о том, как однажды, уже в старшем классе, нашел в ее кровати спрятанную под подушкой резинку, забытую чужим мужчиной, приходящим по понедельникам, когда она так срочно отсылала Егора в кино, нашел этот резиновый кружок и раскатал… И сейчас, вспоминая, не удержавшись, подавился, неаккуратно нажав на ложку, что та надавила на тарелку, что тарелка почти опрокинулась, наклонившись на край, что в ней, переполненной, налитой до голубой каймы, колыхнулись жирные наваренные суповые массы и даже выплеснулись на стол, и отчасти и ему на рубашку.
– Идиот! – сказала мать, как будто догадываясь. – Что ты делаешь, идиот?
«Идиот», – горько понеслось внутри, в каких-то подземных казематах и коридорах, какие бывают вырублены и в горьких скалах, и в каменных сахарных горах.
11
Надо было собираться в театр. А в горле с утра, как назло, драло.
– Черт! – сказал Евгений Леонардович.
С махровым полотенцем, замотанным вокруг шеи, он слонялся по своей огромной квартире. Взял руку в перчатку бокса, бил в стену от злости. Он был разозлен от горла, бил больно своей руке. Стена содрогалась, сервизом позвякивала этажерка и фамильные бокалы в серванте догадывались, как это действительно глупо – заболеть каким-то дурацким насморком, каким-то абсурдным кашлем, когда так близко пролетает комета, которую можно ухватить за хвост. А тут, как назло, в горле, как каким-то кораблем, который, раздирая рези в доках, выплывает так, что гланды увеличиваются неимоверно, и густо, малиново блестят. О, как бессмысленен спорт, что он не может никак помочь, и только полоскание бурное с эвкалиптом, что мышцами почему-то никак…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: