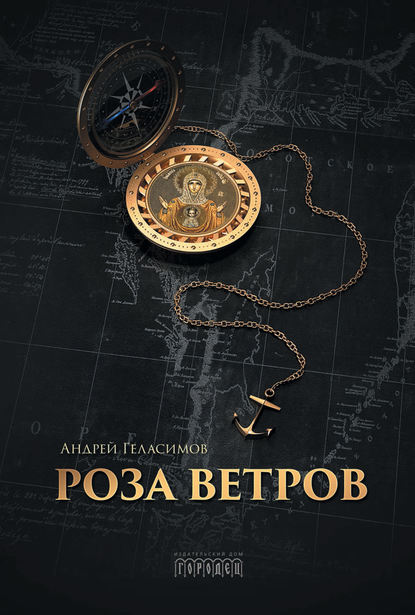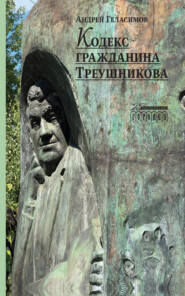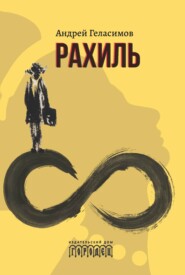По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Роза ветров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С купцами всегда так, – заговорил Невельской, преодолевая чувство брезгливости к самому себе и понимая, насколько он унижается тем, что не уходит и продолжает свои попытки оставаться любезным. – Экономят на всем. Людей в экипаже мало. Рулевой наверняка один. Вахту ночную отстоял, а его снова к штурвалу. Вот и уснул, бедняга… Придется теперь из пушки палить.
В подтверждение его слов с батарейной палубы гулко ударило орудие. Настил под ногами вздрогнул.
– Ну? Слышите? А я вам что говорил? – Он с отвращением уловил в собственном голосе заискивающие нотки.
– Послушайте, господин лейтенант, – заговорил неприязненным тоном его собеседник. – Ведь я понимаю, для чего, собственно, вы это делаете.
– Что делаю? – ненавидя уже себя, переспросил Невельской.
– Да вот это… – Семенов неопределенно махнул руками, обведя все вокруг, словно отмахивался от назойливой мухи, или как будто обстоятельства, задерживающие корабль в проливе, были созданы именно Невельским. – Вы ведь нарочно хотите быть мне полезным. Занимаетесь моим просвещением. Не останови я вас – так вы, пожалуй, станете объяснять про «морские ноги» и про то, как их поскорей обрести.
– Я…
– Нет уж, позвольте мне досказать. – Господин Семенов прищурился и склонил голову набок. – Чтобы не осталось между нами неясного. И чтобы вы напрасно не утруждали себя. Если ночью звучит команда «Поставить брамсели»[43 - Брамсель (нидерл. bramzeil) – прямой парус.] – это значит, что можно спокойно спать. Когда в помощь прямым брамселям ставят лиселя[44 - Лисель (нидерл. lijzeil) – парус, приставляемый при слабом ветре сбоку к прямым парусам для увеличения их площади.] – это означает, что ветер попутный и ход у корабля будет легкий. Когда же кричат «Брать рифы[45 - Брать рифы – уменьшать площадь парусов при увеличении силы ветра.]» – лучше спать не ложиться. Все равно не уснешь.
Говоря все это, господин Семенов уверенно и энергично указывал на те самые паруса, которые упоминал, в завершение своей тирады ткнув пальцем в сторону голландского судна.
– А вот сейчас будет сразу два выстрела. Рулевой на купце так и не проснулся.
Линейный корабль вздрогнул от сдвоенного пушечного залпа, и Невельской растерянно посмотрел в сторону подходящего все ближе голландца. Впрочем, озадачен он был вовсе не этой, в общем-то, привычной морской коллизией. Поражен он был поведением господина Семенова.
– Признайтесь, что просто хотите завоевать мое расположение, – продолжал тот насмешливым тоном. – Вас интересуют причины, которые привели меня на борт «Ингерманланда», и потому вы хотите, чтобы мы стали накоротке. Но этого не будет, господин лейтенант, позвольте вас уверить. Во всяком случае, не теперь. Скажите лучше: била вас матушка в детстве или нет?
Невельскому показалось, что он ослышался, но его собеседник сделал правой рукой такое движение, словно хотел высечь кого-то.
– Сама вас наказывала? Или кому-то из дворовых велела сечь?
Если бы господин Семенов в эту секунду мог заглянуть в душу безмолвно стоявшего перед ним офицера или увидеть физическое воплощение того, что ему удалось в нем пробудить, он, скорее всего, очень бы удивился. Однако за неимением такой возможности ему было невдомек, что за чудовище он вызвал к жизни, и потому он не только не окаменел от удивления, но, напротив, очень живо продолжал говорить:
– Я по книгам вашим почему-то решил, что вы непременно должны быть из тех, кого в детстве часто наказывали.
– Так это вы, значит, были в моей каюте? – Голос Невельского прозвучал бесстрастно и глухо, отчужденно – словно с другой планеты.
– Ну, разумеется, – пожал плечами Семенов. – Мне ведь нужно было узнать, что вы читаете. Составить представление об образе мыслей, так сказать.
– Я желаю с вами драться, – негромко сказал Невельской. – Можете выбрать оружие.
Ночью он лежал без сна до такой степени неподвижно, что сам себе минутами казался надгробием на усыпальнице средневекового рыцаря, какие видел минувшей осенью в датском замке в самом начале этого похода. Каюта, досконально изученная за несколько месяцев плавания, мягко покачивалась перед ним, а вместе с нею покачивался и дрожащий свет. Пламя на конце свечи накренялось то в одну, то в другую сторону, и тени, отбрасываемые скудной корабельной утварью, меняли свои очертания, переползали с места на место, словно корабль и все, что его составляло, было живым и могло вести себя как положит на душу Бог. На суше тени всегда оставались предсказуемы и покладисты, прилежно занимая отведенное им свечой место, тогда как их судовые собратья были своенравны подобно настоящим морякам.
Невельской вспомнил об усопшем недавно архангельском корабельном мастере Андрее Михайловиче Курочкине, который задумал и построил для российского флота не только «Ингерманланд», но еще добрых полсотни других замечательных судов, и решил, что лучшего памятника, живущего вот такой своей собственной жизнью, воздвигнуть корабелу уже не сможет никто.
При закладке судно получило имя «Иезекииль», что должно было, очевидно, по мысли мастера символизировать карающий гнев Божий, описанный ветхозаветным пророком в первых главах его огненной книги. Залп с обоих бортов из семидесяти четырех орудий калибром до тридцати четырех фунтов, то есть ядрами весом в пуд, мог действительно обрушить на неприятеля самую настоящую ярость Господа, однако после трагической гибели предыдущего «Ингерманланда» на норвежских скалах новому линейному кораблю было пожаловано его имя. Со времен Петра Великого в составе Балтийского флота почти беспрерывно несло службу хотя бы одно судно с таким названием. Это было связано с тем, что свой «Ингерманланд», построенный собственными руками, Петр I специальным указом повелел «хранить для памяти» даже после окончания службы, но тот, простояв десять лет после кончины императора, в сильное наводнение затонул, подгнил и был разобран на дрова.
Не в силах уснуть, Невельской рассеянно блуждал мыслями от пророков из Ветхого Завета к флотским традициям и обратно – лишь бы не натолкнуться в этом смутном клубке на презрительно улыбающееся лицо господина Семенова. Он знал, что стоит зацепиться хотя бы за краешек мысли об этом непонятном ему человеке – и он не уснет уже до утра. Чтобы наверняка не думать о нем, Невельской встал со своей узкой кровати и потянулся к полке с книгами. Под ноги ему подвернулась крышка разбитого им после разговора с господином Семеновым рундука. Остальные части этого на поверку не очень крепкого ларя и всего, что содержалось в нем, были разбросаны по каюте. Вестового, который прибежал на грохот и попытался прибраться, Невельской вытолкал взашей, прибив еще немного в процессе, поэтому как минимум до утра ему предстояло мириться с некоторым беспорядком.
Переступив через крышку безвинно пострадавшего рундука, он потянул за корешок Библию, но массивный том, плотно втиснутый между другими книгами, не пожелал сдвинуться с места. Пока Невельской преодолевал его сопротивление, он снова невзначай вспомнил своего язвительного собеседника и слова о матушкиных наказаниях в детстве. На сердце у него стало так тяжело, что он рванул застрявший фолиант изо всех сил, отчего верхняя часть заскорузлого от старости корешка треснула и отлетела напрочь.
Книгу пророка Иезекииля ему удалось отыскать в Библии далеко не сразу. Нечасто он раскрывал этот том, а жалкий свет от огарка, плавающий по каюте в одном ритме с корабельной качкой, скорее усложнял, нежели облегчал задачу.
«И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя…», – выхватил наконец Невельской в ускользающем свете.
Через пару мгновений, когда неверное сияние снова коснулось темной страницы, взгляд его уперся в строчку чуть ниже: «И говори им слова Мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы».
Сколько он помнил, речь в этой книге Ветхого Завета шла об иудеях, плененных царем халдейским Навуходоносором. Та опера Верди, которую давали в Лиссабонском театре чуть больше недели назад и сюжет которой великий князь Константин потом ему пересказал, тоже повествовала об этих событиях. Удивленный совпадением, Невельской закрыл книгу и положил ее на тумбочку у изголовья кровати.
Будучи человеком военным, и более того – морским, на борту корабля он верил в одни точные вещи. Баллистика, навигация, корабельное исчисление, отливы, приливы, сизигийные воды – все это подвергалось расчету, лежало в твердых границах, а главное – повторялось в строгой периодичности, на которой можно было с определенной уверенностью строить свои планы. Тайные знаки, символы, различные совпадения относились к области ненадежной, и оттого не принимались во внимание. Сферу невидимого, не постигаемого при помощи компаса, секстанта, линейки или циркуля Невельской оставлял женщинам и корабельному батюшке, хотя церковь посещал регулярно, а к исповеди и к причастию являлся во все отведенные для этого дни.
Мысли о предметах нематериальных развлекли его ненадолго. Через десять минут он уже снова терзал себя, перебирая одну за другой подробности своего унижения в разговоре с ненавистным господином Семеновым. Пуще всего он был уязвлен той легкостью, с какой этот штатский отмахнулся от его вызова, словно на поединок его вызывал не вахтенный офицер великого князя, а безобидный несмышленый ребенок, и главное – Невельской почему-то сразу почувствовал, что этот человек имеет право на подобное превосходство. Последние несколько лет службы рядом с юным императорским сыном, в результате которых между ними сложились теплые и даже доверительные отношения, не то чтобы вскружили ему голову, безосновательно уверив его в собственной недосягаемости для всех прочих людей, но все же до известной степени давали ему основание ощущать себя выше других. Теперь же ему с предельной ясностью и даже с некоторой беспощадностью были указаны его место и тот непреложный факт, что его положение при великом князе ровным счетом ничего не значит. Мучаясь от унижения, на которое он пошел и на котором был пойман, как мальчишка, задумавший что-то украсть у родителей из буфета, Невельской вспоминал насмешливый взгляд господина Семенова и самообладание, с каким тот реагировал на проход купца у самого борта «Ингерманланда». Рулевого на голландце удалось разбудить едва не в самый последний момент, и суда разошлись в считанных метрах, однако штатский господин даже глазом не моргнул, словно всякий день принимал участие в таких передрягах, и вот именно это его хладнокровие отчего-то уязвляло теперь Невельского сильнее всего.
Наутро он явился в адмиральский салон. Сделать это ему то ли посоветовал, то ли приказал накануне господин Семенов. Командующий отрядом был готов, наконец, принять его, и то, что аудиенцию так легко мог устроить неизвестно откуда появившийся на борту таинственный пассажир, говорило о многом. Никогда до этого, за все долгие годы службы под командованием Федора Петровича Литке не подвергался еще Невельской столь длительному и ничем не разъясненному отстранению от всяких контактов с адмиралом. Теперь, благодаря постороннему, но явно обладавшему неограниченными полномочиями человеку, у него появилась возможность хоть что-то узнать о своем положении. В десятый раз придирчиво оглядывая свой офицерский сюртук с эполетами в поисках малейшей погрешности, он пришел к выводу, что, возможно, вчерашнее унижение все-таки не было напрасным.
Карьера в ближайшем окружении великого князя временами тяготила его малозначительной рутиной и скукой, но тем не менее Невельской ею дорожил. Его не так уж сильно воодушевляло то, что другие считают его положение блестящим и очевидно завидуют ему Он не был тщеславен в том простом или, лучше сказать, детском смысле, когда мнение о нас окружающих составляет главную и единственную нашу цель. Однако он хорошо помнил о судьбе Степана Михайловича Китаева, женившегося в свое время на Анне Тимофеевне Полозовой – родной сестре его матушки. Этот храбрый моряк принял за свою жизнь участие не в одном славном сражении, особенно отличившись в Отечественную войну 1812 года при осаде Данцига и получив за то высший воинский орден империи – Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Командовал бомбардирским кораблем, дослужился до капитана 1 ранга, а затем в одночасье был вдруг разжалован в матросы в 1827-м. Почему это произошло и насколько серьезной могла быть причина столь кардинальной перемены участи моряка – об этом в семье вслух не распространялись, но главное, что Невельской усвоил из тревожных перешептываний матушки с ее сестрой, из тяжелого затворничества дяди и жалкого, постоянно пристыженного поведения двоюродных братьев и сестры, формулировалось ровно в двух словах: такое возможно.
В адмиральском салоне его ожидали командующий отрядом, командир флагманского корабля и господин Семенов. Все трое были оживлены, обсуждая что-то весьма горячо вплоть до того момента, как Невельской постучал в дверь, поэтому, когда он вошел, у него сложилось впечатление, что им трудно было остановиться и не говорить больше в его присутствии.
– Прошу вас, Геннадий Иванович, – на правах хозяина указал ему на стул адмирал Литке.
Салон командующего располагался прямо под шканцами, и Невельской отметил, что предложенный ему стул по странному совпадению стоит ровно под тем самым местом, где прошедшим вечером у него состоялся непростой разговор с господином Семеновым.
– Хотите чаю? – спросил Литке.
– Никак нет, господин вице-адмирал, – отрапортовал Невельской, тут же поднимаясь со стула.
Литке раздраженно махнул на него рукой, давая понять, что формальности неуместны и что вставать было ни к чему.
Командир корабля, тяжело вздохнув, поднялся с дивана. Невельской при этом заметил, что он избегает взглядом сидевшего у стола штатского, хотя тот в свою очередь не сводил с него глаз.
– Я, пожалуй, пойду, Федор Петрович, – сказал Мофет. – Мнением своим я поделился. Добавить по этому вопросу мне больше нечего.
– Спасибо вам, Самуил Иванович, – кивнул вице-адмирал. – Не буду задерживать.
Когда Мофет вышел, в адмиральском салоне на несколько минут установилось молчание. Ни Литке, ни господин Семенов не начинали разговора, в то время как Невельскому и не положено было его начинать. Сидя на удобном адмиральском стуле, он молча ждал прояснения своей участи. Ладони его были неестественно холодны. Пытаясь избавиться от предательски проступившей на них влаги, он крепко прижимал их к сукну своих форменных брюк.
В былые времена такие салоны в корме корабля, состоявшие из кабинета и спальни, тоже оснащались орудиями.
В походе пушки прятались за драпировками, но при начале боя временные переборки снимались, все лишнее удалялось, и каюта адмирала становилась кормовой орудийной палубой. На современных судах такая практика изжила себя, к тому же Федор Петрович Литке был скорее ученым, путешественником и царедворцем, чем боевым адмиралом, от этого и салон его представлял собой помещение для удобной жизни, а не для баталий.
– Что это за шум вчера был в вашей каюте? – заговорил, наконец, командующий отрядом.
– Вещи переставлял, – без малейшей запинки ответил Невельской.
– Вот как? – Вице-адмирал секунду или две молча смотрел в глаза своему подчиненному, а затем покачал головой. – Мне доложили, что грохот стоял как во время боя.
– Тяжелые предметы, ваше превосходительство.
Невельской, не моргая, уставился на огромный лоб Литке, простиравшийся почти до середины его головы. Короткие волосы, скрывающие то, что располагалось дальше, обрамляли эту лысину подобно тому, как плотный и приятный на ощупь мох обрамляет сверкающий на солнце во время отлива морской камень.
– Несдержанны вы, господин лейтенант, – нахмурился Литке, и длинные густые усы его с проседью осуждающе опустились концами вниз.