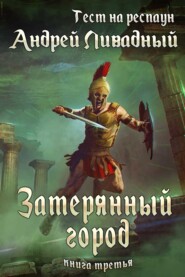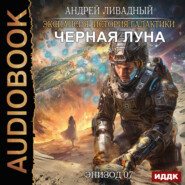По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Восход Ганимеда
Автор
Серия
Год написания книги
2000
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этот робкий вопрос вызвал в душе Колвина целую гамму чувств.
Откровенно говоря, он, как и большинство людей, недолюбливал бродяг и нищих, но эта девочка… или женщина слишком резко диссонировала с укоренившимся в сознании образом уличного попрошайки. Если б не ее одежда, то Антон Петрович ни за что не причислил бы ее к данному классу.
Раньше при входе в метро он неизменно отдавал мелочь, скопившуюся в карманах пальто, тем серым, убогим личностям, что толпились подле входа в вестибюль. Пока он находился в силе, был, как говорится «при делах», Колвину ничего не стоил этот жест, а взамен он получал некое душевное спокойствие, равновесие, что ли.
Вернувшись в Москву после долгого отсутствия, он не нашел никаких радикальных перемен подле станции метро, разве что маленькие коммерческие ларьки сменились на более просторные остекленные павильоны. Все так же у входа торговали цветами и газетами, там же сидели нищие. Он по привычке опустил руку в карман пальто, но мелочи там не нашлось, и он сунул в протянутую к нему ладонь десятку.
Через пару часов ему вновь понадобилось съездить в город, и он, подходя к станции, увидел ту самую бабку, которой дал деньги. Она валялась в вонючей луже подле пивного павильона, а народ брезгливо обтекал ее с двух сторон, как течение реки раздваивает русло, чтобы обогнуть отмель и вновь слиться.
На душе у Колвина вдруг стало так гадостно, что он мысленно зарекся давать кому попало деньги. Не то чтобы ему было жаль их, а просто противно это профессиональное двуличие – с одной стороны, жалобный дрожащий голос, умоляющий о подаянии голодному человеку на кусок хлеба, а с другой – пожилая женщина, валяющаяся в собственных нечистотах…
Пока он размышлял, Лада встала, отряхнула полу старенького демисезонного пальто, на которую одна из собак оперлась лапой, и, ни слова не говоря, собралась идти дальше, по своим, неведомым Колвину делам.
– Постой!.. – неожиданно для самого себя окликнул он девушку. – Ты торопишься?
Очевидно, для нее это был совершенно риторический вопрос.
Антон Петрович посмотрел на нее, заметил, как легкая тень скользнула по чертам изуродованного пьяными генами лица, и предложение, готовое сорваться с его губ, вдруг застряло в горле. Он хотел сказать: «Пойдем, я тебя накормлю», но вдруг отчетливо понял, что ее обидит такая формулировка… «Что за чушь…» – растерянно подумал он, уже совсем не радуясь своему внутреннему порыву, но все же произнес, поражаясь натянутости и чуждости своего собственного голоса:
– Может быть… мы пообедаем… вместе?..
Девушка остановилась, не сумев скрыть ни своего удивления, ни замешательства. По ее глазам нетрудно было понять, что она действительно голодна, но ответ пришел не сразу, как на то подсознательно рассчитывал Колвин. Она стояла перед ним в явном сомнении.
«Что она пытается изобразить из себя? – вдруг уже почти неприязненно подумал Антон Петрович. – Сейчас не семнадцатый год прошлого века, когда бывшая воспитанница пансиона благородных девиц могла запросто оказаться на улице голодной и оборванной…»
– Хорошо… – Ее голос прозвучал неожиданно глубоко и взволнованно, будто слова Колвина, произнесенные скорее из вежливости, нежели из истинных, идущих от самого сердца чувств, нашли неожиданный – а быть может, долгожданный? – отклик в ее душе. – Если вы приглашаете…
– Конечно, приглашаю.
Было в ней что-то необычное, какая-то изюминка не то в голосе, не то в тени от улыбки, что, вопреки всему, блуждала по чертам ее лица, не то во влажном блеске не по годам серьезных глаз…
Откровенно говоря, Колвин злился на самого себя, достав из кармана свисток и подзывая собак его резкой трелью.
«Ну, что, старый филантроп, доволен?» – мысленно спрашивал себя он, глядя, как обе овчарки наперегонки несутся к нему.
Прицепив поводки к их ошейникам, Антон Петрович выпрямился, посмотрев на свою новую знакомую.
– Как тебя зовут? – вдруг запоздало спохватился он.
– Лада.
– А меня Антон Петрович. Пойдем, нам туда. – Он указал рукой на входную дверь в подъезд.
Его уединение, столь тщательно им культивируемое, оказалось нарушено самым странным и внезапным образом.
Впрочем, Колвин, успокоившись, решил не обращать внимания на свой великодушный порыв. В конце концов, что за беда – покормит он девочку и отпустит. Красть в его квартире особенно нечего, да и бюджет отставного генерала вполне выдерживал обед на две персоны…
* * *
Отомкнув дверь, он пропустил в квартиру собак, жестом пригласил войти Ладу, а сам переступил порог последним.
Овчарки, освободившись от поводков, тут же бросились на кухню, к миске, где их ждал завтрак.
Колвин снял пальто, повесил его во встроенный шкаф, занимавший одну из стен прихожей, кряхтя, разулся. Сунул ноги в домашние тапочки.
– Сейчас посмотрим, что нам бог послал… – Он оглянулся. – Ты раздевайся, – он кивнул на пустые вешалки в шкафу. – Пальто туда, вот тебе тапочки…
– Извините, Антон Петрович, а может, я так? – вдруг спросила она. – Только переобуюсь?
– Да что за церемонии, на самом-то деле? – Колвин, видя, что она застыла в мучительной нерешительности, и совершенно не понимая причин этой стеснительной робости, протянул руку, безо всякой задней мысли, и расстегнул одну из пуговиц ее пальто.
Он физически ощутил, как девушка вздрогнула, сжалась, и та внезапная перемена, что произошла с ее глазами, оказалась столь разительной, что Колвин тоже вздрогнул, невольно опустив руку.
Один раз он видел подобное выражение в глазах собаки, когда несправедливо наказал Джека, вытянув того поводком вдоль хребта. Осмысленное чувство ярости, неприятия, готовности дорого взять за свою честь или по крайней мере за то, что под ней подразумевается.
– Не надо, – твердо, но безо всякой злобы произнесла она, расстегивая пальто. – Я сама.
Она отвернулась, вешая одежду, а Колвин весь сжался, похолодел внутри, когда понял, что не только кусок хлеба был ее единственным достоянием…
Под пальто не было ничего, кроме заштопанной в нескольких местах теплой ночной рубашки, какие носят зимой и летом вечно зябнущие в силу своего возраста старушки.
Лада повернулась, не пряча взгляд, и спокойно произнесла:
– Извините, Антон Петрович, я думала, мне будет лучше остаться в пальто. Я не могу носить грязную одежду… – внезапно призналась она, и по ее глазам было видно, что эта странная во всех отношениях девушка сказала немного больше, чем хотела.
У Колвина перехватило дыхание, но не от вида округлостей молодого тела, которые тонко прорисовывала плотно облегающая фигуру ткань, а от запоздалого внутреннего стыда.
Не суди, да не судим будешь…
Он молча развернулся, прошел в ванную комнату, и оттуда вдруг раздался его голос:
– Ладушка, подойди сюда!
Она не надела тапочки, и по холодному кафелю коридора мягко прошелестела ее прихрамывающая поступь.
В глазах девушки блеснула предательская влага, которая была удалена, вытравлена одним резким движением перед самым порогом ванной комнаты. Неизвестно, что явилось причиной, вырвавшееся у Колвина виновато-отеческое «Ладушка» или просто ужасное, болезненное напряжение происходящего, но вошла она спокойно, с твердым, даже немного жутковатым выражением на искаженном лице…
– Вот… – Колвин осекся, напоровшись на ее взгляд, и рука с теплым халатом повисла в воздухе. – Держи. – Отбросив сомнения, он сунул халат ей в руки и внезапно добавил:
– Можешь включить горячую воду. Ты моя гостья. А я пока пойду посмотрю, чем мы будем обедать.
* * *
Застыв посреди ванной комнаты, как грубо и неумело сработанный манекен, она, не шевелясь, напряженно всматривалась в собственное отражение, что в полный рост демонстрировало ей зеркало, прикрепленное к стене над раковиной чуть тронутыми ржавчиной металлическими креплениями.
Было ли у нее свое, сокровенное представление о чуде?
Скорее всего, что нет…
Откровенно говоря, он, как и большинство людей, недолюбливал бродяг и нищих, но эта девочка… или женщина слишком резко диссонировала с укоренившимся в сознании образом уличного попрошайки. Если б не ее одежда, то Антон Петрович ни за что не причислил бы ее к данному классу.
Раньше при входе в метро он неизменно отдавал мелочь, скопившуюся в карманах пальто, тем серым, убогим личностям, что толпились подле входа в вестибюль. Пока он находился в силе, был, как говорится «при делах», Колвину ничего не стоил этот жест, а взамен он получал некое душевное спокойствие, равновесие, что ли.
Вернувшись в Москву после долгого отсутствия, он не нашел никаких радикальных перемен подле станции метро, разве что маленькие коммерческие ларьки сменились на более просторные остекленные павильоны. Все так же у входа торговали цветами и газетами, там же сидели нищие. Он по привычке опустил руку в карман пальто, но мелочи там не нашлось, и он сунул в протянутую к нему ладонь десятку.
Через пару часов ему вновь понадобилось съездить в город, и он, подходя к станции, увидел ту самую бабку, которой дал деньги. Она валялась в вонючей луже подле пивного павильона, а народ брезгливо обтекал ее с двух сторон, как течение реки раздваивает русло, чтобы обогнуть отмель и вновь слиться.
На душе у Колвина вдруг стало так гадостно, что он мысленно зарекся давать кому попало деньги. Не то чтобы ему было жаль их, а просто противно это профессиональное двуличие – с одной стороны, жалобный дрожащий голос, умоляющий о подаянии голодному человеку на кусок хлеба, а с другой – пожилая женщина, валяющаяся в собственных нечистотах…
Пока он размышлял, Лада встала, отряхнула полу старенького демисезонного пальто, на которую одна из собак оперлась лапой, и, ни слова не говоря, собралась идти дальше, по своим, неведомым Колвину делам.
– Постой!.. – неожиданно для самого себя окликнул он девушку. – Ты торопишься?
Очевидно, для нее это был совершенно риторический вопрос.
Антон Петрович посмотрел на нее, заметил, как легкая тень скользнула по чертам изуродованного пьяными генами лица, и предложение, готовое сорваться с его губ, вдруг застряло в горле. Он хотел сказать: «Пойдем, я тебя накормлю», но вдруг отчетливо понял, что ее обидит такая формулировка… «Что за чушь…» – растерянно подумал он, уже совсем не радуясь своему внутреннему порыву, но все же произнес, поражаясь натянутости и чуждости своего собственного голоса:
– Может быть… мы пообедаем… вместе?..
Девушка остановилась, не сумев скрыть ни своего удивления, ни замешательства. По ее глазам нетрудно было понять, что она действительно голодна, но ответ пришел не сразу, как на то подсознательно рассчитывал Колвин. Она стояла перед ним в явном сомнении.
«Что она пытается изобразить из себя? – вдруг уже почти неприязненно подумал Антон Петрович. – Сейчас не семнадцатый год прошлого века, когда бывшая воспитанница пансиона благородных девиц могла запросто оказаться на улице голодной и оборванной…»
– Хорошо… – Ее голос прозвучал неожиданно глубоко и взволнованно, будто слова Колвина, произнесенные скорее из вежливости, нежели из истинных, идущих от самого сердца чувств, нашли неожиданный – а быть может, долгожданный? – отклик в ее душе. – Если вы приглашаете…
– Конечно, приглашаю.
Было в ней что-то необычное, какая-то изюминка не то в голосе, не то в тени от улыбки, что, вопреки всему, блуждала по чертам ее лица, не то во влажном блеске не по годам серьезных глаз…
Откровенно говоря, Колвин злился на самого себя, достав из кармана свисток и подзывая собак его резкой трелью.
«Ну, что, старый филантроп, доволен?» – мысленно спрашивал себя он, глядя, как обе овчарки наперегонки несутся к нему.
Прицепив поводки к их ошейникам, Антон Петрович выпрямился, посмотрев на свою новую знакомую.
– Как тебя зовут? – вдруг запоздало спохватился он.
– Лада.
– А меня Антон Петрович. Пойдем, нам туда. – Он указал рукой на входную дверь в подъезд.
Его уединение, столь тщательно им культивируемое, оказалось нарушено самым странным и внезапным образом.
Впрочем, Колвин, успокоившись, решил не обращать внимания на свой великодушный порыв. В конце концов, что за беда – покормит он девочку и отпустит. Красть в его квартире особенно нечего, да и бюджет отставного генерала вполне выдерживал обед на две персоны…
* * *
Отомкнув дверь, он пропустил в квартиру собак, жестом пригласил войти Ладу, а сам переступил порог последним.
Овчарки, освободившись от поводков, тут же бросились на кухню, к миске, где их ждал завтрак.
Колвин снял пальто, повесил его во встроенный шкаф, занимавший одну из стен прихожей, кряхтя, разулся. Сунул ноги в домашние тапочки.
– Сейчас посмотрим, что нам бог послал… – Он оглянулся. – Ты раздевайся, – он кивнул на пустые вешалки в шкафу. – Пальто туда, вот тебе тапочки…
– Извините, Антон Петрович, а может, я так? – вдруг спросила она. – Только переобуюсь?
– Да что за церемонии, на самом-то деле? – Колвин, видя, что она застыла в мучительной нерешительности, и совершенно не понимая причин этой стеснительной робости, протянул руку, безо всякой задней мысли, и расстегнул одну из пуговиц ее пальто.
Он физически ощутил, как девушка вздрогнула, сжалась, и та внезапная перемена, что произошла с ее глазами, оказалась столь разительной, что Колвин тоже вздрогнул, невольно опустив руку.
Один раз он видел подобное выражение в глазах собаки, когда несправедливо наказал Джека, вытянув того поводком вдоль хребта. Осмысленное чувство ярости, неприятия, готовности дорого взять за свою честь или по крайней мере за то, что под ней подразумевается.
– Не надо, – твердо, но безо всякой злобы произнесла она, расстегивая пальто. – Я сама.
Она отвернулась, вешая одежду, а Колвин весь сжался, похолодел внутри, когда понял, что не только кусок хлеба был ее единственным достоянием…
Под пальто не было ничего, кроме заштопанной в нескольких местах теплой ночной рубашки, какие носят зимой и летом вечно зябнущие в силу своего возраста старушки.
Лада повернулась, не пряча взгляд, и спокойно произнесла:
– Извините, Антон Петрович, я думала, мне будет лучше остаться в пальто. Я не могу носить грязную одежду… – внезапно призналась она, и по ее глазам было видно, что эта странная во всех отношениях девушка сказала немного больше, чем хотела.
У Колвина перехватило дыхание, но не от вида округлостей молодого тела, которые тонко прорисовывала плотно облегающая фигуру ткань, а от запоздалого внутреннего стыда.
Не суди, да не судим будешь…
Он молча развернулся, прошел в ванную комнату, и оттуда вдруг раздался его голос:
– Ладушка, подойди сюда!
Она не надела тапочки, и по холодному кафелю коридора мягко прошелестела ее прихрамывающая поступь.
В глазах девушки блеснула предательская влага, которая была удалена, вытравлена одним резким движением перед самым порогом ванной комнаты. Неизвестно, что явилось причиной, вырвавшееся у Колвина виновато-отеческое «Ладушка» или просто ужасное, болезненное напряжение происходящего, но вошла она спокойно, с твердым, даже немного жутковатым выражением на искаженном лице…
– Вот… – Колвин осекся, напоровшись на ее взгляд, и рука с теплым халатом повисла в воздухе. – Держи. – Отбросив сомнения, он сунул халат ей в руки и внезапно добавил:
– Можешь включить горячую воду. Ты моя гостья. А я пока пойду посмотрю, чем мы будем обедать.
* * *
Застыв посреди ванной комнаты, как грубо и неумело сработанный манекен, она, не шевелясь, напряженно всматривалась в собственное отражение, что в полный рост демонстрировало ей зеркало, прикрепленное к стене над раковиной чуть тронутыми ржавчиной металлическими креплениями.
Было ли у нее свое, сокровенное представление о чуде?
Скорее всего, что нет…