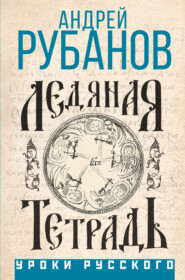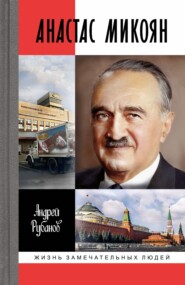По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хлорофилия. Живая земля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«И сказано было ему так:
О человек! Пять тысяч лет ты бьешь себя кулаком в грудь и кричишь: “Я человек!” А когда тебе говорят: “Продолжай”, – ты замолкаешь. Ибо не знаешь, кто ты есть.
Бог ли ты? Нет. Ни мига единого не был ты Богом и ни мига единого не будешь. Бог разрушает, Бог создает, и это одно и то же действие. Ты же совершаешь тысячу тысяч действий в попытке создать – и всякий раз, начиная создавать, заканчиваешь тем, что разрушаешь все, что создано тобою. И еще многое, что создано не тобою.
Зверь ли ты? Нет. Зверь убивает только ради пищи. Ты убиваешь ради идей, ради забавы, ради гордыни, ради облегчения немощи своей. И всегда найдешь тысячу тысяч причин, чтобы убить.
Камень ли ты мертвый? Нет, ты не камень, ты живой, ибо родишь потомство живое. А камень имеет от Бога привилегию не родить потомства.
Еще сказано ему было так:
Ты есть стебель. Внизу ты укоренен, вверху свободен. Под тобой – черный прах, над тобой – свет прозрачный. Твои корни – во прахе останков предшественников твоих: оттуда берешь ты половину силы. Твое тело – в лучах желтой звезды, в облаке света прозрачного: оттуда берешь ты вторую половину силы.
Не пытайся брать только внизу или только наверху. Лишенный корней, обнимающих прах предшественников, ты погибнешь. Лишенный света прозрачного, ты не способен расти.
Потом сказано было так:
Ты есть стебель, и вот удел твой: чтобы взять половину силы, внизу обнимай корнями как можно больше праха предшественников. На их костях ты процветаешь.
Запомни, и всем скажи, и повторяй каждый день: нельзя процветать иначе как на костях предшественников.
Чтобы взять вторую половину силы, наверху ищи свет прозрачный. Воздвигайся как можно выше. На то тебе даны все дни твоей жизни.
И еще сказано было:
Ты есть стебель, и как у тебя две половины силы, так у тебя две половины планиды. Воздвигнуться как можно выше, повсюду искать лучей желтой звезды – есть первая половина планиды. Самому стать прахом – есть вторая половина планиды. Стань прахом, смешайся с прахом подобных тебе, чтоб укоренился последователь твой, сын и сын его сына, потомок и потомок его потомка, из колена в колено, из рода в род. Как ты сам укоренен, так укоренится в твоем прахе потомство твое».
Герц закрыл томик и бросил на ковер. Всякий раз, когда пытался читать Тетрадь, он не мог одолеть больше нескольких абзацев кряду. Потом прекращал – с ясным ощущением, что зря теряет время. Но ощущение возникало не оттого, что содержание книги раздражало Савелия, а оттого, что он понимал: все, написанное в Тетради, ему уже известно.
Однако та же причина заставляла Савелия регулярно – в последнее время дважды в день или даже чаще – снова вчитываться в шевелящиеся, лукаво мерцающие строки. Каждый человек охотнее и внимательнее изучает то, что и без того знает. Хорошая книга не дарит тебе откровение – хорошая книга укрепляет тебя в твоих самостоятельных догадках. Она обращается не к жажде информации, а к твоим страхам – дает понять, что ты не один, есть еще кто-то, кого мучают те же вопросы, что и тебя.
Правда, Герц не был уверен, что Тетрадь – хорошая книга. Наоборот, он бы назвал ее дурной. Вредной. Слишком беспокоящей. Подтверждающей некоторые худшие опасения.
Книга раздражала. Она рекомендовала, например, непрерывно искать света прозрачного, постоянно пребывать в лучах желтой звезды. А где их взять на проклятом восемьдесят восьмом этаже? Здесь ужасно. Здесь за окнами – самые верхушки стеблей. Они все время в движении. Колеблются под ветром. Двадцатью уровнями ниже все ясно: вот тебе, бледный человек, неподвижный зеленый частокол, утром, днем и вечером одинаковый. Ты смотришь на него – и всегда точно знаешь, сколько именно узких солнечных лучей и в какие часы тебе достанется. На восьмидесятых – все иначе. Только зажмуришься, счастливый, согретый горячей желтой волной, – как вдруг ближайший черно-зеленый хвост сдвинется под порывом ветра и отберет весь свет прозрачный. Приходится переступать, вправо или влево, дальше от окна или ближе. Чувствуешь себя полным дураком.
Говорят, к этому надо просто привыкнуть. Но Савелий жил на восемьдесят восьмом меньше месяца и пока не привык.
Старик сказал: «Через год переедешь повыше». Слукавил. Денег стало в пять раз больше. Герц продал старое жилье, добавил все, что накопил, и вот: восемьдесят восьмой уровень.
Одной мечтой стало меньше.
Все равно его мало, солнца. Его тотально не хватает. Очень мало солнца! Возмутительно мало! Его должно быть гораздо больше. Живешь в постоянном голоде. Тень – даже самая жидкая, серая – отвратительна до тошноты. Ненависть к проклятой траве отравляет душу. Конечно, мякоть стебля – это здорово, это помогает жить. Но ведь и солнца хочется. Приятель по этажу, владелец экспортной компании, давно предлагает Савелию вступить в кооператив: несколько пайщиков – все достойные люди – вкладывают общий капитал в создание исследовательской лаборатории. Инвестировать в технологии искоренения – самая крутая мода восьмидесятых уровней.
А выше, на девяностых, у каждого свой исследовательский центр, талантливых биохимиков сманивают сразу с университетской скамьи. Толстосумы хвастают личными лабораториями, как когда-то, двести лет назад, аристократы козыряли друг перед другом конюшнями или псарнями. И это при том, что изучение феномена стеблероста официально считается монополией государства и за разглашение информации можно крупно пострадать.
Интересно, любопытно жить на восьмидесятых. Здесь все иначе. Старик Пушков-Рыльцев был прав: журналист, даже самый лучший, ничего не знает про жизнь. Единственный способ разобраться в событии или явлении – поселиться в эпицентре. На месяц, на два, на год.
Герц вылез из воды, завернулся в массажную простыню. Вздохнул. Правда и то, что все эти центры и лаборатории – а их сотни – до сих пор не нашли ответов на самые простые вопросы. Почему, например, трава выросла именно в Москве, в черте города, меж домов и дорог, среди железа, бетона и пластика? Почему за пятьдесят часов она достигает высоты в триста метров, а потом перестает развиваться? Почему ей не вредят морозы? Почему грибница восстанавливает каждый уничтоженный стебель, но не разрастается, не выбрасывает новых побегов? Почему, наконец, вызываемое пожиранием мякоти эйфорическое состояние не отягощено побочными эффектами? Ведь человек не создан для вечной эйфории. Эйфория ослабляет волю к сопротивлению. Человеку требуются горе, гнев, страх, отчаяние, боль, голод. Отрицательные эмоции совершенствуют род людской, адаптируют, закаляют. Так утверждала наука, и с ней не спорили – до того дня, пока зеленые побеги не полезли из московской земли.
Сорок лет ищут побочные эффекты. Сорок лет не могут поверить, что трава безвредна. Анализируют. Смотрят в микроскопы. Ставят опыты. Клонируют семена, зародыши. Тем временем за стенами лабораторий кипит другая жизнь: миллионы беззаботно жрут мякоть и тихо радуются.
…Обсохнув и взбодрившись, Герц неторопливо оделся, выбрав для сегодняшнего дня костюм в стиле высокооплачиваемого распиздяя-интеллектуала. Спортивные туфли, мятые джинсы, полотняная рубаха навыпуск, пиджак с кожаными пуговицами, которые якобы вот-вот оторвутся, но на самом деле никогда не оторвутся, потому что прогресс, друзья, не стоит на месте и пуговицы уже пятьдесят лет не отрываются даже у самых неопрятных холостяков.
В последнее время шеф-редактор предпочитал прикид распиздяя-интеллектуала всем прочим прикидам. Самые серьезные дела делаются именно в небрежной, легкомысленной одежде. Давно известно, что именно распиздяи-интеллектуалы – наиболее серьезные, влиятельные и даже опасные люди: развлекаясь и шутя, меж двумя сигаретками они способны произвести на свет идеи, сводящие человечество с ума.
Напоследок бесшумно дошел до спальни, заглянул. Жена спала, погрузившись щекой в подушку. Зрелище немного сдвинутой набок нижней губы Варвары, пунцовой маленькой губы, вдруг испугало Савелия. «Вот живое существо, – подумал он, загрустив. – Мыслящее, лично мне дорогое. Иногда по ночам оно утверждает, что целиком находится в моей власти. Внутри его зреет еще одно существо. Теперь их, значит, двое. И это я устроил так, чтобы рядом появилось сначала одно существо, потом и второе. Зачем, почему, что мне с этим делать? Смогу ли я их защитить? Сберечь? Оправдаю ли ожидания?»
Тряхнул головой. Пора идти.
Вот так выбегаешь утром из дома, а перед тем как распахнуть дверь во внешний мир, замираешь на несколько мгновений, иногда даже с закрытыми глазами, и обещаешь себе: это будет мой самый лучший день. Я проживу его достойно, я добьюсь своего. Я их сделаю, я восторжествую, я им всем вставлю. Но еще до того, как шагнуть за порог, понимаешь: сегодня будет так же, как вчера и позавчера. Выйдешь к ним, а они грустные, тихие, улыбаются мирно: парень, нас уже сделали, нам уже вставили, неоднократно… Каждую минуту вставляют. Желающих множество. Хочешь – и ты вставь, если тебе от этого легче.
И тебе ясно тогда: нет никакой чести в том, чтобы вставить всему миру.
Но и не вставлять тоже нельзя. Иначе мир расслабится и решит, что может обойтись без тебя. А ты не согласен.
Тебе точно известно: мир не может обойтись без тебя. Иначе зачем тогда ты рожден?
2
Через десять минут после выезда на шоссе он понял, что за ним следят.
В соседней полосе движения, в пятидесяти метрах сзади, катил серый китайский «кадиллак». Не отставал и не приближался.
Савелий ездил быстро, любил и умел, но водитель серого седана тоже был мастер.
Пришлось набрать номер Мусы. Герц объяснил, что и как, продиктовал номер машины преследователей. Через две минуты Муса перезвонил.
– Их номер не пробивается, – спокойно произнес он. – Засекречен. Но ты не переживай. Точно могу сказать одно: это не государственные менты. И не полугосударственные. Частная контора. Сыскное агентство или что-то такое… В общем, в измене родине тебя не обвинят. А кому и как ты насолил – сам прикинь. И не вздумай отрываться, никаких шпионских игр, понял?
– Понял. – Герц улыбнулся.
Слежка – это интересно. Это возбуждает. Если за тобой следят – значит, ты живешь как надо. Слежки еще нужно удостоиться. За безобидным обывателем следить не будут. А ты – шеф-редактор влиятельного общественно-политического ежемесячника, и если за тобой пустили хвост, стало быть, уважают; стало быть, не так уж плох твой общественно-политический ежемесячник.
Следят – пусть. Следить за журналистом – старинный русский обычай. И не просто следить, а пасти – спокойно, почти в открытую. Чтобы клиент нервничал и боялся.
«А я не буду бояться и нервничать, – подумал Савелий. – Не дождетесь. Вы, наверное, думаете, я только на бумаге смелый, а в действительности – книжный червячок. Жаль вас разочаровывать, но придется».
Сначала он бросил машину. Свернул с эстакады возле новейшей башни «Бондарчук», нашел на пятьдесят пятом уровне супермаркет, припарковался на стоянке, двинул пешком. Уходить от наблюдения надо именно пешком, налегке. Ноги надежнее колес. На колесах вы не протиснетесь в узкую щель, не прыгнете, не повернете резко на сто восемьдесят градусов.
Вы умеете уходить от слежки? Я умею. Я Савелий Герц, мне пятьдесят два года, я выгляжу на тридцать пять – и я на движняке, господа. Я многое умею. Краем глаза вижу, как серый «кадиллак» резво катит вдоль сплошного ряда машин – парковка огромна, но свободных мест нет, граждане Москвы необычайно любят шопинг, особливо по утрам, чтобы к обеду отовариться модными в этом сезоне горячими чипсами и засесть перед телевизорами «Соседей» смотреть… Вот филеры нашли местечко, первый выскочил, бежит, вертит головой, второй ставит машину, как положено, и догоняет. Тут мы их срисовываем. Выясняем внешность. Преследователи теряют преимущество анонимности. Да, их двое, и они, разумеется, андроиды: плечи крепкие, задницы круглые, движения ловкие. Морды гладкие; отсвечивают, как сортирный кафель. Суперсамцы, ни единого изъяна. Такие холеные мачо – если они живые люди – не работают в спецслужбах, в наружном наблюдении. Слишком легко одеты для промозглой московской осени, и одежда сидит как влитая, поскольку карманы пусты: андроид не носит с собой ни бумажника, ни блокнота, ни носового платка, ничего.
Возможно, они поняли, что раскрыты, – но ничего страшного. Наоборот, так проще. Спецоперация превращается в банальную погоню. Ну, погоня – громко сказано. От андроида нельзя убежать. Андроид не устает, и пот никогда не заливает его глаза.
Посмотрим, кто кого.
Кстати, Герц похолодел, а почему я решил, что они – филеры? Почему уверен, что мне не грозит, например, избиение? Или убийство? Сейчас эти двое загонят меня в безлюдное местечко и аккуратно ликвидируют. Влетит мне в затылок специальная нанопуля, которую потом невозможно будет найти в теле покойного. Загнанных журналистов пристреливают, не так ли?
А вот паниковать нельзя. Да и спешить тоже. Лучше приземлиться в уютном баре, вот здесь, – вытянуть ноги в теплом полумраке. Выпить чашечку кофе. Кстати, тут отличные кресла с подушками из квазиживых водорослей. Сделано все для упрочения персонального психологического комфорта клиентуры. За мной андроиды не сунутся – они не оцифрованы, не имеют под кожей государственного чипа… короче говоря, денег у них нет. Ага, правильно: внутрь не вошли, один пристроился напротив дверей, с понтом шнурок завязывает, второй – в двадцати метрах, талантливо сделал вид, что разглядывает витрину журнального киоска. Кстати, на самом видном месте сверкает там обложка свежего номера ежемесячника «Самый-Самый». Отличная обложка, Филиппок придумал: черно-белый, в стиле аскетических посткризисных двадцатых годов, портрет Анжелины Лоллобриджиды. Глазищи, губищи, воплощенный секс.