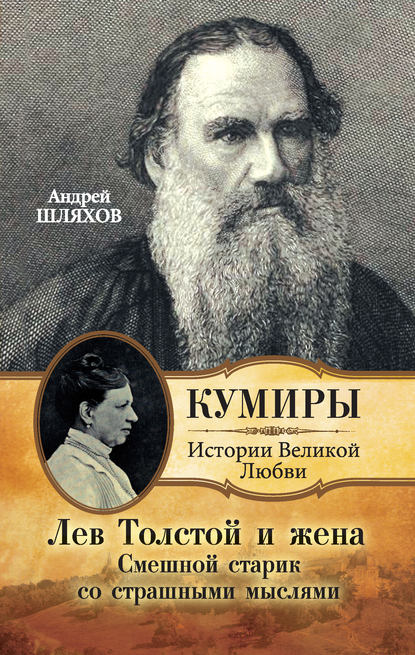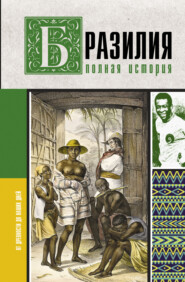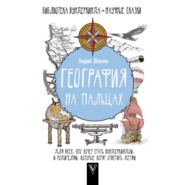По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лев Толстой и жена. Смешной старик со страшными мыслями
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это, или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый».
После выхода замуж Зинаида Молоствова ни разу не встречалась с Толстым. Не видела в том смысла, или, быть может, боялась развеять тот поэтичный возвышенный образ, который остался в памяти Толстого. Ее двоюродный племянник, журналист и критик Николай Германович Молоствов, вспоминал: «Через много, много лет, уже будучи в очень преклонном возрасте, З. М. Молоствова-Тиле, по прежнему обаятельная и прекрасная в своей способности жить и утешаться всяческими иллюзиями, вспоминала о своем увлечении Толстым в словах, проникнутых трогательной сентиментальностью и нежной какой-то грустью о промелькнувшем светлом видении юных дней».
30 мая 1851 года братья Толстые добрались до конечного пункта своего путешествия – казачьей станицы Старогладковской, расположенной на левом берегу Терека, в которой стоял полк Николая. Льву станица не понравилась – в день прибытия он написал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже». Днями позже, в письме к тетушке Туанет он признается, что местный край далеко не так красив, как ожидалось, что квартира плоха, так же, как и весь быт в целом, что все офицеры совершенно необразованные, но, в общем-то, славные люди.
Постепенно Толстой прижился в станице, изучая казачью жизнь, столь непохожую на жизнь тульских крестьян, изучая кумыкский язык, самый распространенный в то время язык на Кавказе, и, конечно же, любуясь красивыми казачками. Не только, впрочем, любуясь, но и добиваясь время от времени их расположения. В повести «Казаки» Толстой писал: «Красота гребенской (Старогладковская была одной из станиц так называемого казачьего Гребенского войска. – А.Ш.) женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины».
Одна из станичных красоток наградила Толстого неприличной болезнью. Три долгие недели ушло на лечение и самобичевание. Раздраженный донельзя, Лев писал брату Николаю 10 декабря 1851 года: «Болезнь мне стоила очень дорого: аптека – рублей 20. Доктору за 20 визитов и теперь каждый день вата и извозчик, стоят 120. – Я все эти подробности пишу тебе с тем, чтобы ты мне поскорее прислал как можно больше денег… La maladie vene?rienne est de?truite: mais se sont les suites du Mercure, qui me font souffrir l’impossible[3 - Венерическая болезнь уничтожена, но последствия лечения ртутью доставляют мне невыносимые страдания (фр.).]. Можешь себе представить, что у меня весь рот и язык в ранках, которые не позволяют мне ни есть, ни спать. Без всякого преувеличения, я 2-ю неделю ничего не ел и не проспал одного часу». Не преминул страдалец пожаловаться и тетушке Туанет, стыдливо превратив в письме к ней венерическую болезнь в горячку.
Казацкая жизнь нравилась Толстому настолько, что одно время он видел в ней идеал жизнеустройства. Его, склонного к рефлексиям, самоанализу, копанию в себе, поражала и умиляла близость казаков к природе. В повести «Казаки» Оленин размышляет о том, что эти люди «живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет… Люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя».
Должно быть, Толстому, как и Оленину, «серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке… и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю, и с казаками в походы». Однако, испытав порыв, Оленин, подобно Толстому, спешит от него откреститься. «Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, – продолжает он, – красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я и зачем я. Тогда бы другое дело; тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив».
Несомненно, жизнь Льва Толстого была бы гораздо лучше, сумей он еще в молодости отделаться от мысли о том, «кто я и зачем я». Возможно, одним великим писателем на свете стало бы меньше, но зато одним счастливым человеком больше.
«Мне многие советуют поступить здесь на службу, в особенности князь Барятинский, которого протекция всемогуща», – писал Толстой Татьяне Ергольской в августе 1851 года. Князь Барятинский был начальником левого фланга Кавказской армии. Мечты о военной карьере вновь завладели им. Толстой недаром упомянул о всемогущей протекции князя Барятинского, он серьезно рассчитывал на то, что князь будет способствовать его продвижению по службе. Пора было становиться героем, пора было доказать всем, и, в первую очередь, брату Николаю, что «пузырь» Лева способен не только спускать за карточным столом внушительные суммы. Кстати, последнему занятию Лев Толстой довольно часто предавался на Кавказе.
В ожидании прихода документов, необходимых для зачисления на военную службу, Толстой начинает работать над повестью «Детство».
3 января 1852 года Толстой был принят на службу фейерверкером IV класса в одну из батарей 20-й артиллерийской бригады. Экзамен на звание юнкера он выдержал на «отлично», хватило знаний, полученных в университете и почерпнутых из книг. Толстой счастлив, он сообщает об этом тетушке Туанет, признаваясь, что он очень рад подобной перемене в своей жизни, и прежде всего рад не быть более свободным. Теперь он находит корень всех своих ошибок в том, что он пользовался чрезмерной свободой. Утверждение спорное, но в чем-то оно справедливо. «Я думаю, – пишет Толстой, – что мое столь легкомысленное решение отправиться на Кавказ было ниспослано мне свыше. Мною руководила рука Бога, и я не перестаю благодарить его за это. Я чувствую, что здесь я стал лучше… Я твердо уверен, что все случившееся со мной здесь пойдет мне только на благо, потому что такова воля Божья».
В том же письме Лев, по своему обыкновению, с началом военной службы, начиная мечтать об отставке, рисует тетушке картину светлого будущего, такой, каким она представляется ему. Рисует авторитарно, эгоистично, заранее распределив роли и не сомневаясь в том, что они будут безоговорочно приняты его близкими: «Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясном – дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей; Вы все еще живете в Ясном. Вы немного постарели, но все еще свежая и здоровая. Жизнь идет по-прежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; после обеда, вечером я читаю вслух то, что Вам не скучно слушать; потом начинается беседа. Я рассказываю Вам о своей жизни на Кавказе, Вы – Ваши воспоминания о прошлом, о моем отце и матери; Вы рассказываете страшные истории, которые мы, бывало, слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами… Знакомых у нас не будет; никто не будет докучать нам своим приездом и привозить сплетни. Чудесный сон, но я позволю себе мечтать еще о другом. Я женат – моя жена кроткая, добрая, любящая, и она Вас любит так же, как и я. Наши дети Вас зовут «бабушкой»; Вы живете в большом доме, наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка; все в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папа; и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли: Вы берете роль бабушки, но Вы еще добрее ее, я – роль папа, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена – мама, наши дети – наши роли: Машенька – в роли обеих тетенек, но не несчастна, как они; даже Гаша и та на месте Прасковьи Исаевны. Не хватает только той, кто мог бы Вас заменить в отношении всей нашей семьи. Не найдется такой прекрасной любящей души. Нет, у Вас преемницы не будет. Три новых лица будут являться время от времени на сцену – это братья и, главное, один из них – Николенька, который будет часто с нами. Старый холостяк, лысый, в отставке, по-прежнему добрый и благородный.
Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. Как дети будут целовать у него сальные руки (но которые стоят того), как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания об давно прошедшем времени, как Вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас, как Вы нас, старых, будете называть по-прежнему «Левочка, Николенька» и будете бранить меня за то, что я руками ем, а его за то, что у него руки не чисты… Все это, может быть, сбудется, а какая чудесная вещь надежда».
Домашний деспот, который воображает, как жена его «будет хлопотать»… Распределение ролей производится в полном соответствии с тем раскладом, который Лев Николаевич наблюдал в детстве. Так было и так будет, иначе и быть не может.
Служба вскоре опостылела. Сказались обиды (не представили к вожделенному Георгиевскому кресту), беспокойный распорядок жизни (о какой размеренной жизни можно вообще говорить на войне?), нелады с начальством (подполковник Алексеев, командир Толстого, был, по его мнению, болтливым дураком) и нелады с другими офицерами (те не любили Толстого за его высокомерие). Умиление простотой нравов и близостью к природе давно позабыто. Толстой жалуется Татьяне Ергольской: «Слишком большая разница в воспитании, чувствах, взглядах моих и тех людей, которых я здесь встречаю, чтобы я испытывал малейшие удовольствия с ними». «Он гордый был, – вспоминал о Льве Толстом его сослуживец Щелкачев, – другие пьют, гуляют, а он сидит один, книжку читает. И потом я еще не раз его видал – все с книжкой…»
На Кавказе здоровье Толстого сильно расшатывается. Ревматизм, проблемы с пищеварением, нервное истощение. По совету врача он просит двухмесячный отпуск для поправки здоровья и получает его.
Толстой снимает домик в окрестностях Пятигорска и начинает лечиться, но без особого успеха. Ему докучает симпатичная хозяйка. «Она решительно со мной кокетничает: перевязывает цветы под окошком, караулит рой, поет песенки, и все эти любезности нарушают покой моего сердца, – писал Толстой. – Благодарю Бога за стыдливость, которую он дал мне, она спасает меня от разврата». Работа над «Детством» близится к концу – придирчивый автор завершает четвертую правку. 3 июля 1852 года он отправляет повесть известному поэту Николаю Некрасову, редактору литературного журнала «Современник». Имени своего не открывает, подписывая и письмо, и повесть инициалами Л.Н.
День 29 августа 1852 года стал знаменательным днем в жизни Толстого. В этот день он написал в дневнике: «Письмо от редактора, которое обрадовало меня до глупости».
«Милостивый государь! – говорилось в письме. – Я прочел Вашу рукопись (Детство), она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет поболее живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш и талант меня заинтересовали. Еще я советовал бы Вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо с своей фамилией. Если только вы не случайный гость в литературе. Жду вашего ответа».
На вопрос о гонораре (Толстой, погрязший в невыплаченных карточных долгах, отчаянно нуждался в деньгах), Некрасов ответил, что «в наших лучших журналах издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике». За последующие произведения Николай Алексеевич пообещал назначить достойную плату.
Осенью того же года первая повесть Льва Толстого появилась в «Современнике» и была с восторгом встречена читателями.
Глава пятая
Война и литература
К весне 1853 года военная служба, вместе с самой жизнью на Кавказе, окончательно опостылели Толстому, и он начал хлопотать об отставке. Армейские бюрократы тянули с решением, Толстой страдал и злился.
Злился не столько на себя, сколько на князя Барятинского, который к тому времени стал начальником штаба Отдельного Кавказского корпуса. Решение о поступлении на военную службу было принято Толстым не без влияния советов Барятинского. Честолюбивый юнкер надеялся, что протекция князя будет способствовать его продвижению по службе, но его надежды не оправдались. То ли Барятинский забыл о Толстом, то ли изменил свое мнение о нем.
В июле 1853 года Толстой написал князю довольно резкое письмо, излив в нем свое раздражение. Лев обвинил Барятинского в том, что тот причинил ему зло своими советами, которым наивный молодой человек «имел ветреность» последовать. Затем Толстой подробно остановился на том, как его обошли наградами, отличиями и производством в офицерский чин, в чем также находил вину Барятинского. «Я два года был в походах, и оба раза весьма счастливо. Первый год неприятель подбил ядром колесо орудия, которым я командовал, на другой год, наоборот, неприятельское орудие подбито тем взводом, которым я командовал», – писал Толстой.
«Послал письма: Барятинскому – хорошее…» – записал он в дневнике.
Из-за назревающей войны с Турцией отставки были приостановлены императорским повелением, о чем Толстого известили в августе 1853 года. Решив извлечь из вынужденного продолжения службы как можно больше пользы, Толстой 6 октября подал командующему войсками, расположенными в Молдавии и Валахии, своему троюродному дяде князю Михаилу Дмитриевичу Горчакову, докладную записку с просьбой о переводе в действующую армию. Просьбу свою Толстой обосновал желанием продолжать службу вместе с родственниками – двумя его четвероюродными братьями Горчаковыми, племянниками командующего войсками. Брат Николай к тому времени уже вышел в отставку.
Ожидание перевода было еще тягостнее, чем ожидание отставки. 26 ноября Лев писал брату Сергею: «Во всяком случае к новому году я ожидаю перемены в своем образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, глупые офицеры, глупые разговоры – больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души». 1 декабря он записал в дневнике: «Ожидание перемены жизни беспокоит меня, а серая шинель до того противна, что мне больно (морально) надевать ее, чего не было прежде».
В декабре Лев жаловался тетушке Tуанет: «Без друзей, без занятий, без интереса ко всему, что меня окружает, лучшие годы моей жизни проходят бесплодно, для себя и для других; мое положение, возможно, сносное для других, становится для меня с моей чувствительностью все более и более тягостным. Дорого я плачу за проступки своей юности…»
Отдушину Толстой находил в работе над тремя начатыми им произведениями: «Отрочеством», «Записками фейерверкера», «Романом русского помещика» и ведении дневника. Окрыленный успехом своей первой повести, он работал с упоением, видя в писательстве главное свое предназначение. Толстой пишет не для избранных, он пишет для всех, желая видеть своей аудиторией весь мир.
12 января 1854 года Толстой узнал о том, что переводится в Дунайскую армию. На следующий день он был произведен в офицеры, получив чин прапорщика. Началась подготовка к отъезду. Толстой спешил, так как намеревался по дороге побывать дома в Ясной Поляне. 19 января Толстой отправился в путь, проведя на Кавказе два года и семь с половиной. Настроение у него прекрасное. Уже после выезда из Старогладковской он записал в дневнике: «Встал рано и до самого отъезда писал или хлопотал. Отслужил молебен – из тщеславия. Алексеев очень мило простился со мной… Нынче, думая о том, что я полюбил людей, которых не уважал прежде, товарищей, я вспомнил, как мне странна казалась привязанность к ним Николеньки. И перемену своего взгляда я объяснял тем, что в кавказской службе и во многих других тесных кружках человек учится – не выбирать людей, а в дурных даже людях видеть хорошее».
В Бухарест Толстой прибыл 12 марта и тут же ощутил разницу между старым и новым местами службы. Если Старогладковская была настоящей глухоманью, то Бухарест – европейской столицей, со всеми полагающимися атрибутами светской жизни. Обеды, вечера, балы, итальянская опера, французский театр… Кузены тепло приняли Толстого, не менее радушной была встреча у командующего. «Он обнял меня, пригласил меня каждый день приходить обедать к нему и хочет оставить меня при себе, хотя это еще не решено», – писал Толстой.
Лев был рад переменам, в Бухаресте ему нравилось все, включая и сослуживцев, которые, в отличие от прежних, были людьми светскими, блестящими, утонченными. Деньги у Толстого водились – по его поручению был продан «на вывоз» огромный яснополянский дом (для проживания в имении остались два больших флигеля), продан за внушительную по тем временам сумму в пять тысяч рублей, поэтому нет ничего удивительного в том, что его снова потянуло к картам. Проигрывал он регулярно.
В качестве ординарца дивизионного генерала Сержпутовского Толстой был не слишком занят служебными делами. Избыток свободного времени позволил ему закончить корректуру «Отрочества» и отправить рукопись Некрасову. «Я еще и не понюхал турецкого пороха, а преспокойно живу в Бухаресте, прогуливаюсь, занимаюсь музыкой и ем мороженое», – писал Лев Татьяне Ергольской.
7 июля Лев Толстой описал в дневнике себя самого. Портрет вышел не слишком привлекательным: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, безо всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без уменья жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но – с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность.
Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра, – славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них…»
Ввиду отступления русских войск штаб переехал в Кишинев. Здесь Толстой решил издавать журнал «Солдатский вестник», или «Военный листок», призванный поддерживать на должном уровне моральный дух воинов, но не получил разрешения императора Николая I. Лев огорчился и нашел, что служба при штабе ему наскучила. Очень кстати недалеко от Севастополя высадились французы и англичане. Толстой подал рапорт с просьбой о переводе. «Из Кишинева 1 ноября я просился в Крым, отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня. В Крыму я никуда не просился, а предоставил распоряжаться судьбой начальству», – сообщал Лев брату Сергею.
7 ноября Толстой оказался в Севастополе. Увиденное поразило его и вызвало восхищение русскими солдатами. «Дух в войсках свыше всякого описания, – писал Лев брату Сергею. – Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов (вице-адмирал Владимир Корнилов – один из руководителей обороны Севастополя. – А.Ш.), объезжая войска, вместо: “Здорово, ребята!”, говорил: “Нужно умирать ребята, умрете?” – и войска кричали: “Умрем, ваше превосходительство. Ура!” И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили это обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24 французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде 24 было 160 человек, которые, раненные, не вышли из фронта. Чудное время!.. Мне не удалось ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время».
В Севастополе Толстой начал писать рассказы об обороне города для некрасовского «Современника». Писал он правдиво, красочно, что называется «с душой», поэтому неудивительно, что рассказы эти получили высокую оценку во всех слоях русского общества, включая и самые высшие. Поговаривали, что недавно восшедший на престол император Александр II был настолько впечатлен, читая «Севастополь в декабре месяце», что тут же приказал беречь его автора и не подвергать его опасности, ввиду чего Толстого перевели в более спокойное место, подальше от сражений. Не исключено, впрочем, что командующий князь Горчаков решил поберечь и облагодетельствовать родственника, обещавшего стать знаменитым писателем.
Севастополь пал, Крымская война фактически закончилась, Толстой возобновил ходатайство об отставке, и, в ожидании разрешения, был отправлен курьером в Санкт-Петербург. На радостях, в канун отъезда он проиграл в карты почти три с половиной тысячи рублей, но это прискорбное событие не могло омрачить его радости.
19 ноября 1855 года Лев Толстой приехал в Санкт-Петербург. Остановившись в гостинице, он привел себя в порядок и сразу же отправился к Ивану Тургеневу, с которым состоял в переписке. Следующим было знакомство с Некрасовым. Тургенев настолько проникся расположением к Толстому, что уговорил Льва переехать из гостиницы к нему на квартиру (Тургенев жил тогда на Фонтанке, у Аничкова моста, в нижнем этаже дома Степанова). Толстой согласился, ему льстило подобное внимание.
Очень скоро Лев Толстой перезнакомился со всеми петербургскими литераторами того времени. Он произвел на всех хорошее впечатление, и отношения с новыми знакомыми установились самые дружелюбные.
«Приехал Л. Н. Т., то есть Толстой, – писал Некрасов литератору Василию Боткину. – Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергический, благородный юноша – сокол!.. а может быть, и – орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши… Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился. Читал он мне первую часть своего нового романа – в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии. Обещал засесть и написать для первого номера “Современника” “Севастополь в августе”. Он рассказывает чудесные вещи».
Новые знакомые не могли отвратить Толстого от старых привычек. Едва оказавшись в столице, он с наслаждением предался разгулу. Кутежи, карты, неизменные проигрыши, цыганский хор, публичные женщины… Душа, истосковавшаяся по привычным радостям, никак не могла насытиться.
Образ жизни Толстого вызывал осуждение у Тургенева. Если с тем же Некрасовым у Льва Николаевича установились ровные отношения, то споры с Тургеневым вскоре переросли в ссоры, некоторые из которых чуть было не заканчивались дуэлями.
Еще до знакомства с Толстым Тургенев некоторое время был увлечен его сестрой Марией, своей соседкой по имению, отчего изначально относился ко Льву очень тепло. Но вскоре поведение Толстого, его бесцеремонные замечания, нападки на то, что было дорого Тургеневу, привели к охлаждению отношений между ними. Толстому доставляло удовольствие выводить Тургенева из себя, сохраняя при этом полное спокойствие.
Они не могли разойтись навсегда – какая-то неведомая сила манила их друг к другу. Ссоры сменялись возобновлением отношений, совместными обедами, дружескими беседами, далее шли новые ссоры – и так без конца. Изменение отношений Лев Николаевич методично фиксировал в дневнике:
«Поссорился с Тургеневым».
«Обедал у Тургенева, мы снова сходимся».