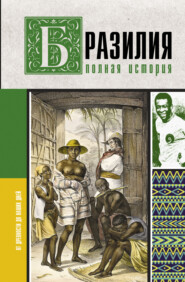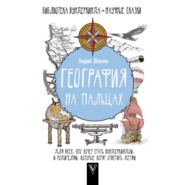По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Доктор Данилов в дурдоме, или Страшная история со счастливым концом
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы сейчас поднимем ножки, станем топать по дорожке, – было сказано при наложении электродов на ноги.
– Лежим, не шевелимся, не мычим, не телимся, – сказал он перед тем, как включить свой аппарат.
Он так и не узнал, насколько близок был к получению «в морду». Сделал свое дело, скатал в рулончик снятую ленту, отсоединил электроды и скрылся за дверью, сказав на прощание:
– Наше дело не тужить, нарисуем – будем жить!
Не иначе как из бывших пациентов. Поступил с обострением шизофрении, подлечился и понял, что не в силах расстаться с таким чудесным учреждением. Понял – и остался в медсестрах, то есть в медбратьях, хотя нет, в трудовой книжке и мужчинам пишут «медсестра». Кто-то говорил об этом, кажется Саркисян… или Эдик… Ладно, проехали, неважно все это.
– Вам придется переодеться, – предупредила Тертычная. – У нас такое правило – все больные ходят в пижамах. И предварительно придется помыться в душе.
– Это обязательно? – мыться что-то не хотелось.
– Да, обязательно, – подтвердила врач. – Саша вас проводит. После душа зайдете в процедурную, там вам сделают укол снотворного – и можете спать. Обходы, что профессорский, что заведующего, у нас проходят поздно, не раньше полудня, так что выспаться вы успеете.
Глава вторая
Утрата
Светлана Викторовна умерла утром во время завтрака. Данилов, обеспокоенный тем, что мать в субботу не отвечает на телефонные звонки, приехал в первом часу и увидел ее лежащей на полу кухни. Поза была неестественной – мать лежала скрючившись и подвернув под себя правую руку. Левую руку она протянула вперед, словно намереваясь схватить кого-то или что-то. Рукав махрового халата задрался, на белом мраморе руки змеились синеватые вены.
Как врач Данилов сразу же понял, что все уже произошло несколько часов назад, но как сын он поверить в это не мог. Перевернул тело матери на спину, стукнул кулаком по грудине (удар иногда помогает «запустить» остановившееся сердце) и начал делать непрямой массаж сердца, чередуя ритмичные надавливания на грудную клетку с искусственным дыханием «рот в рот». Холода материнских губ он не ощущал.
Сколько времени он пытался реанимировать труп и сколько времени рыдал во весь голос, осознав свое бессилие, Данилов не помнил. Помнил только прибежавшую на шум соседку и еще каких-то людей. Люди задавали ему вопросы, он отвечал, но все это было как сон, все это было не с ним, всего этого не должно было быть…
Потом появилась Елена. Ничего не говорила, только сидела рядом и гладила по руке. Данилов хотел сказать ей, что мама на самом деле умерла, что он пытался ее спасти, но не смог выдавить из себя ни слова – только мычание, перемежающееся всхлипами. Но Елена и так все поняла. Еще немного посидела рядом, потом мягко, но настойчиво потянула Данилова прочь из кухни. Данилов подчинился и оказался в своей комнате. Елена уложила его на диван, накрыла пледом и вышла. Данилов послушно закрыл глаза, но заснуть так и не смог. Елена, должно быть, поняла это по его дыханию, потому что через какое-то время вернулась со стаканом в одной руке и двумя таблетками в другой. Вскоре лекарство (снотворное из материнских запасов) подействовало, и Данилов заснул. Он спал до следующего утра, проспал приезд «труповозов» и визит ритуального агента… Всем занималась Елена, которой помогали две близкие подруги Светланы Викторовны и тетя Аня, соседка по лестничной площадке.
Народу на похоронах было немного – человек тридцать, многих из которых Данилов знал только понаслышке. Чувствуя, что сегодняшний день окажется самым тяжелым, он с утра наелся обезболивающего, запил его стаканом водки и оттого держался хорошо – выслушивал соболезнования, стоял рядом с гробом и вообще делал все, что положено в подобных случаях. Время от времени обменивался взглядом с Еленой, один раз подумал: «Интересно, а что испытывает она, хороня, в сущности, совершенно чужого ей человека? Что это – притворство в рамках приличия или простое сочувствие?» Мысль была ненужной и неуместной, поэтому Данилов больше к ней не возвращался.
Когда гроб плавно опустился в свежевырытую могилу, Данилов ничего не почувствовал и очень этому удивился. Чуть позже понял причину – мать осталась там, в Карачарове, на полу кухни, выстланном ее любимой плиткой («Правда, хороший выбор, и симпатично, и совсем не скользко, даже если воду пролить?»). Здесь, в гробу лежала совершенно посторонняя, незнакомая женщина, лишь отдаленно похожая на мать. Да – примерно те же черты лица, но сколько в мире похожих людей!..
Накатило после, дома, на поминках, точнее – под конец поминок, когда гости, сидящие за длинным, взятым напрокат у тети Ани раздвижным столом, слегка оживились от выпитого и от скорбной темы перешли к обычным – заговорили о своих делах и заботах. Заговорили прилично, негромко, без улыбок и, упаси боже, анекдотов, но тем не менее разговор стал живым, обыденным, и от этого горечь стала разъедать душу пуще прежнего. Дело было не в душевном состоянии и не в разговорах, в конце концов, жизнь продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на что. Подействовало другое – дома у матери шел разговор о жизни, а хозяйка не могла в нем участвовать. Не могла и уже никогда не сможет. Никогда…
Отчего-то вспомнилось стихотворение Евтушенко, написанное на смерть Ахматовой (мать так и не привила сыну любовь к поэзии, но многое из того, что она то и дело цитировала, Данилов запомнил):
Она ушла, как будто бы напев
Уходит в глубь темнеющего сада.
Она ушла, как будто бы навек
Вернулась в Петербург из Ленинграда.
Е. А. Евтушенко. «Памяти Ахматовой»
Куда ушла мать? Вернулась в прошлое? Растворилась в небытии? Или до сих пор продолжает присутствовать здесь, рядом, только ее не видно… А видит ли она что-нибудь? Или ей уже неинтересно?
Данилов растерянно огляделся, словно надеясь увидеть где-нибудь за столом или в задвинутом в угол кресле Светлану Викторовну, но кроме лиц, знакомых и ставших знакомыми за сегодняшний день, ничего не увидел…
С последним из гостей, учителем математики из лицея, в котором работала Светлана Викторовна, сдвинули стол и отнесли к соседке. Затем Данилов принялся вытирать посуду, уже вымытую Еленой, и расставлять ее по местам. Тарелок, стаканов и вилок с ножами хватило на всех, не пришлось занимать у соседей, впрочем, на поминки с кладбища приехали не все – человек пятнадцать.
Затем Данилов проводил Елену до машины (время уже перевалило за полночь), но сам с ней не поехал – сказал, что хочет остаться здесь. Елена все поняла и не стала отговаривать. Пообещала позвонить утром и уехала.
Данилов с четверть часа потоптался в пустом дворе, чуть ли не впервые в жизни пожалев о том, что так и не выучился курить. Ах, как бы сейчас пригодилась эта вредная привычка!
Делать нечего – пришлось обходиться теми, которые успел приобрести. Обеспечение (мать всякий раз так смешно сердилась, слыша это слово с ударением не на втором по счету «е», а на третьем – учительница!) было – с поминок осталось два десятка бутылок водки, закупленной в расчете «не уйдет сразу – так останется на девятины и сороковины».
Захотелось позвонить Полянскому, уже вторую неделю отдыхавшему в Египте, но Данилов переборол это желание. Зачем портить человеку отдых и выставлять его на дорогой международный звонок? Мать уже не вернуть, пусть Игорь вернется в Москву, тогда и узнает…
Темнота вокруг дышала равнодушием, совсем не собираясь разделять даниловскую скорбь и чем-то компенсировать его чувство утраты. Данилов вздохнул и потянул на себя дверь подъезда…
Вернувшись домой, обратил внимание на то, что зеркало в прихожей завешено, и удивился тому, что не заметил этого раньше. Стряхнул с ног кроссовки и в носках прошелся по квартире, зажигая повсюду свет. С ним было если не веселее, то как-то спокойнее.
Долго стоял под ледяным душем, но нисколько не замерз – только выветрился хмель. Хмеля было немного, если считать и утренний стакан, то выпил он сегодня не больше полулитровой бутылки. А вот теперь пришло время наверстать упущенное.
Пить хотелось не просто так, а со смыслом. На кухонном столе Данилов «накрыл поляну» – два стакана, две тарелки, бутылка водки, хлеб, нарезки, оставшиеся с поминального стола. Нарезки: колбасу, ветчину, сыр – свалил горкой на самую большую из тарелок, чтобы не заставлять посудой весь стол. В завершение поставил на стол подсвечник со свечой, зажег ее, разлил водку по стаканам, накрыл, как и положено, материнский ломтиком черного хлеба, сел за стол и сказал:
– Ну что, мам, давай прощаться, раз уж так получилось…
Минут через пять, так и не отводя глаз от накрытого хлебом стакана, он неожиданно заговорил вслух о том, что волновало его последнее время. Рассказывал матери, но в глубине души не был уверен, что она его слышит, хотя верить в это очень хотелось. Рассказывал откровенно, ничего не утаивая и не сглаживая, рассказывал так, как давно уже не говорил с матерью. Если не подводит память, то последний раз он делился с нею своими чувствами и мыслями классе в шестом. Да-да, именно в шестом. В седьмом он уже счел себя достаточно взрослым для того, чтобы справляться со всеми проблемами самостоятельно. Разговоры по душам случались и потом, причем не так уж и редко, но сын всегда прикидывал, что можно говорить, а что нельзя. Что стоит, а что не стоит, чтобы лишний раз не волновать мать. А ведь хороший, душевный разговор, настоящий разговор, получается только тогда, когда ты говоришь все, что хочешь сказать, и совершенно не следишь за тем, что следует говорить, а что – нет. Постоянный контроль за собой убивает искренность, и не исключено, что мать это замечала, обижалась, но виду не подавала. Несмотря на некоторую субтильность, она была очень сильным человеком и прекрасно умела владеть собой. Педагог с сорокалетним стажем, да…
К концу второй бутылки язык начал заплетаться. Данилов очень здраво рассудил, что вслух говорить не обязательно, можно и про себя. Если мать его сейчас слушает, то услышит и так. Если нет, то и напрягаться незачем, сам с собой он прекрасно разговаривает и молча.
Свеча догорела, но новую искать не хотелось. Лунного света было достаточно для того, чтобы не пронести горлышко бутылки мимо стакана, а руку – мимо тарелки с закуской.
Заснул Данилов прямо за столом, как раз в то время, когда объяснял матери, почему он, при всей своей любви к игре на скрипке, никогда не задумывался о музыкальной карьере. Объяснение выходило путаным и сбивчивым, слова вслед за мыслями перескакивали с одного на другое, и оттого выходило, что концертирующим скрипачом Данилов не стал лишь потому, что стеснялся играть на людях. На самом же деле музыка была для него чем-то сокровенным, продолжением его мыслей, его эмоций, воплощением его настроения, и потому играть напоказ, на людях, было сродни принародному раздеванию догола. Такой вот музыкально-ментальный эксгибиционизм ни отнять, ни прибавить. Подобно одному герою анекдотов, Данилов понимал все правильно, а выразить свою мысль не мог и оттого очень страдал, сознавая, что нынешний разговор с матерью – последний из последних. Следующего уже никогда не будет. Не может быть…
Данилова разбудила санитар, объявивший с порога:
– Новенькие! Обход к вам идет!
Громкое заявление было подкреплено звуком захлопнувшейся двери.
Данилов сел в кровати, протер глаза, окончательно расставаясь со сном, и огляделся по сторонам.
Палата как палата. Светло-зеленые стены, белый, в трещинах, потолок, четыре койки. Две свободные, без постельного белья – только пятнистые матрацы лежат. Возле каждой – прикроватная тумбочка. Все, разумеется, привинчено к полу. На койке напротив – собрат по несчастью, мужичок неопределенного возраста и невзрачной наружности. Тоже трет глаза. Вот закончил и осовело уставился на Данилова.
– Владимир, – представился Данилов.
– Юра, – ответил мужичок. – Тебя ночью положили, я сквозь сон слышал…
Дверь распахнулась, впуская группу людей в белых халатах. Идущий впереди лысый коротышка, похожий лицом на бегемота из мультфильмов, конечно же профессор. Тот, что повыше и с надменной физиономией, заведующий отделением, не иначе. Он самый – вон как начал зыркать глазами по углам, проверяя, нет ли где грязи или чего-то запрещенного. Румяная толстушка в высоченном колпаке – старшая медсестра. Стриженная под мальчика жилистая брюнетка со стопкой историй в руках – палатный врач, двое мужчин среднего возраста за ее спиной – врачи, ведущие другие палаты, а усатая осанистая матрона, окруженная группой молодежи, не иначе как доцент. Или – ассистент кафедры. Нет, все же доцент – у ассистентов не бывает столь величественной осанки и столь высокомерного взгляда. Если бы не молодь вокруг, Данилов зачислил бы матрону в заместители главного врача. Но в этом случае ей следовало не замыкать процессию, а идти во главе, рядом с профессором.
Ни одного знакомого лица, чего и следовало ожидать, ведь кафедра не «своя», куда на пятом курсе бегал целый год, а «чужая», другого вуза.
Начали по часовой стрелке – с соседа. Профессор уселся на край кровати (ни одного стула в палате не было), все прочие растянулись в дугу.
– Родился от первой беременности, – зазвучал звонкий, хорошо поставленный голос палатного врача. – Беременность и роды без отклонений, развитие без особенностей, ходить и говорить начал вовремя. Из детских инфекций помнит только корь и ветрянку. Рос в обычной семейной обстановке, отец злоупотреблял алкоголем, но скандалы в семье были не часто…
Данилов прикинул, что при столь обстоятельном докладе раньше чем через полчаса очередь до него не дойдет, и улегся на спину, закинув руки за голову.
– В школу пошел с семи лет. Особого интереса к учебе никогда не испытывал, учился преимущественно на тройки, отношения с одноклассниками были хорошими…