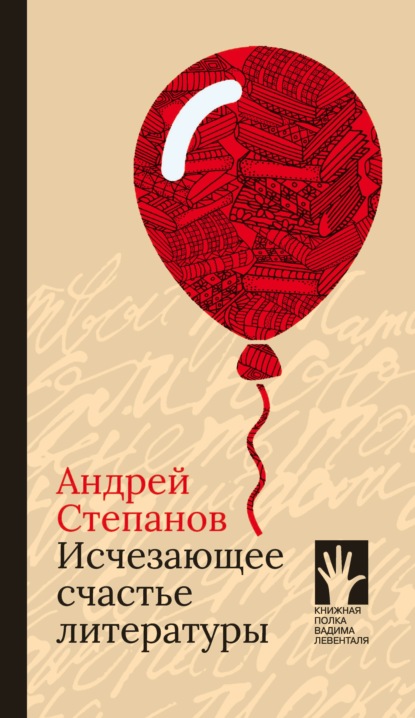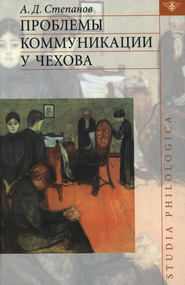По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Исчезающее счастье литературы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«По данным на 1982 год, в Ленинградском научном центре работают свыше 23 тысяч человек, в том числе 25 академиков, 57 членов-корреспондентов, свыше 900 докторов и около 3,5 тыс. кандидатов наук».
В том числе мой отец, умерший в 1983-м.
Говорят, что до середины 1960-х Лесной был самым зеленым районом города. Здесь были дачи и дачки, сады и садики, кусты сирени, клумбы с цветами, бескрайнее море сосен и соединенные канавами пруды – Золотой, Серебряный, Круглый. Это был полупригород, предместье, связанное с городом живой ниткой трамвайных рельсов. Девятый, восемнадцатый, тридцать второй, сороковой, пятьдесят третий – все с разноцветными огоньками – сходились на кольце у Политеха. Значительно сокращенный сороковой маршрут существует до сего дня. От прочих остался эфемерный след: линия трамвая на площади Мужества сворачивает на Второй Муринский точно в том же месте, что и сто лет назад, следуя изгибу снесенных домов.
Эту линию открыли первой в Петербурге, в 1886 году. Через сто лет система ленинградского трамвая стала самой большой в мире и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В новом Санкт-Петербурге от нее каждый год методично отрезают по куску, и очень скоро не останется совсем ничего.
Кроме воспоминаний.
От Института постоянного тока к дому с трубой шел переулок с чисто петербургским названием – Пустой. Помню, что по этому переулку я ходил в «булочную на Яшумова». Или это наваждение, аберрация памяти? Не мог я туда ходить, ведь интернет утверждает: известный с 1887 года Яшумов переулок частично уничтожен в 1950-е, а в 1964 году его остатки слились с улицей Курчатова. Но я ясно слышу голос покойной матери: «Через полчаса будем обедать. Сбегай-ка на Яшумова за хлебом».
Можно ли вообще что-то вспомнить о нашем городе?
В том же 1964 году Пустой переулок назвали именем Шателена. Мой дед работал с Михаилом Андреевичем Шателеном, есть фотография, где молодой дед (1903 г. р.) стоит за спиной почтенного господина с бородкой (1866 г. р.), они рассматривают какие-то серьезные графики. Дед умер, когда мне было тринадцать лет, о Шателене он не рассказывал, и это красивое французское слово так и осталось для меня переулком, до сих пор полупустым, поскольку всю его восточную сторону занимает длинный высокий забор, за которым расположена недоступная для простых смертных территория. Такие участки на карте города оставляют пустыми, закрасив серым цветом, и любой ленинградец покажет вам серый многоугольник рядом со своим домом, навеки огороженное пространство, вдоль стены которого он идет всю жизнь, никогда не попадая внутрь.
Наш город состоит из разнообразных пустот.
Где-то к 1990 году я осознал одну странную вещь. До тех пор мне казалось, что, гуляя по городу, я прохожу мимо Адмиралтейства, Академии художеств, Сената и Синода: любителю старых романов мерещилось, что он живет в Санкт-Петербурге. Осознал же я, что хожу мимо Военно-морского училища им. Дзержинского, Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, Исторического архива, причем попасть в эти здания по большей части трудно или совсем невозможно. Стало ясно – я живу в Ленинграде. Но ясность сохранялась недолго: в 1991 году город переименовали в Санкт-Петербург. Потом начали возвращать названия улиц, и появилась возможность прогуляться по Большой Морской, что твой Набоков. Спустя еще какое-то время Музей религии и атеизма (Казанский собор) стал проводить богослужения, покамест не убрав экспонаты, представлявшие ужасы инквизиции. А потом в здание Сената вернули высшую судебную инстанцию (чем и был Сенат на излете империи), и жить стало еще страннее.
Стоит что-то понять про этот город – ион тут же изменится.
Я гуляю по Политехническому парку, где знакома каждая тропинка: тысячу раз я проезжал по ним в детстве на велосипеде или пробегал трусцой, готовясь стать настоящим физиком. Вот самая красивая в мире водонапорная башня, часть кафедры гидротехники, маячившая в моем окне все детство. Вот Первый и Второй профессорские корпуса – лучшие места для жизни во всем городе. Памятная доска на Первом: здесь с 1902 по 1957 год жил выдающийся энергетик профессор М. А. Шателен. (Наш дом с трубой был де-факто третьим из корпусов, но не получил звания профессора, как и мой дед.) Вот Дом ученых в Лесном. Сюда нас водили в четвертом классе на встречу… – господи, какой же я старый! – на встречу с ветераном Гражданской войны, бойцом 25-й Чапаевской дивизии. Старик закусил зубами беломорину и прошелся по сцене церемониальным маршем, показывая, как на самом деле проходила психическая атака – неправильно, по его мнению, показанная в фильме «Чапаев» (сейчас историки уверены, что такой атаки не было вовсе). Сюда же мы ходили с родителями в кино. Точно знаю, что в канун 1978 года в Доме ученых шел фильм Чаплина «Огни рампы». Дату подсказывает воспоминание: когда возвращались домой по Политехническому парку, отец сказал, что актер, который играл в фильме главную роль и сочинил к нему удивительную музыку, вчера умер. Из самого фильма запомнилась почему-то только молитва старого клоуна. Когда его возлюбленная-балерина выходила на сцену, он опускался на колени за кулисами и молился так: «Господи, если ты есть, помоги ей».
Господи, если ты есть, не дай забыть все это.
Собираю по интернету фотографии Лесного и раскладываю их по порядку, начиная с XIX века. Листаю книгу «Лесной. Исчезнувший мир».
Вот Золотой пруд, по берегу которого, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Вот Серебряный пруд, на льду которого зимой 1928 года снялись на память юные хоккеисты 168-й школы, победившие в соревнованиях на первенство города. Вот памятник блокадному колодцу на уничтоженной Прибытковской улице; фотографии самого колодца не сохранились, и даже место его расположения неизвестно. Глубокий старик всматривается в застроенный чужими домами двор своего детства. Видите, здесь линия домов чуть-чуть изгибается? Это след прежней улицы, снесенной в 1960-х годах. Больше от нее ничего не осталось.
Кроме меня.
«Исчезли улицы: Новая, Лесная, Янковская, Объездная, Раздельная, Яковская, Ананьевская, Васильевская, Михайловская». «Исчезли сады и палисадники, сады и куртины, клены, ясени, плакучие березы, дубовые рощи, жасмин, сирень, бузина». Исчезли картины в тяжелых рамах, кровати с никелированными шишечками, дровяные сараи и деревянные церковки, фонари и фонарщики, песочницы и качели, ЖАКТы и управдомы, смешные собачки, разноцветные стекла на верандах и сами веранды. «Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь». «Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно».
Обрывки фотографий, дневников, мемуаров умерших людей:
«…7-го класса. Июнь 1942 года…»;
«… обстрелы нашего района из дальнобойных. Пока живы. Очень голодно…»;
«…вещи и бумаги таинственным образом исчезли после ее смерти…»;
«Не осталось даже яблонь».
Трамвай, который не сворачивал на пятачке на Второй Муринский, продолжал движение по Малой Спасской. Позади последнего вагона загибался полукругом воздушный шланг пневматического тормоза, именуемый в просторечии «колбасой». Повиснув на трамвайной колбасе, не попавшие внутрь пассажиры как ни в чем не бывало катились дальше по своим делам. Говорят, что именно от этого происходит всероссийски известное выражение – «катись колбаской по Малой Спасской».
Вот и все, что сохранилось в памяти народной от нашего района.
Они катились от действующего до сих пор трамвайного кольца возле копии берлинского Политеха, мимо памятника чистейшего банного конструктивизма, мимо дачи Шаляпина, мимо дома с трубой, мимо дач и дачек, садов и садиков, мимо кустов сирени, мимо частично выживших сосен и частично засыпанных прудов. Катились колбаской по Малой Спасской по направлению к центру города, к Адмиралтейству, к Академии художеств, к Сенату и Синоду, к местам, где по-прежнему стоят пятнадцать тысяч старых домов, переживших войну и Матвиенко, окруженных серыми пустотами, к местам, у которых редко бывает добрый гений, но обязательно есть история выживания.
2017
Привет от Ким Чен Ына
2016 год, весна. Я живу в пригороде Сеула, в университетском кампусе. Поселили меня в студенческом общежитии, но в отдельном номере, на верхнем, двадцатом этаже. Дом к тому же стоит на холме, и из окна открывается совершенно захватывающий вид на такие же двадцатиэтажные дома до самого горизонта. А за горизонтом, страшно сказать, – Северная Корея.
И вот сижу я дома, пишу статью, а иногда, чтобы отвлечься, почитываю новости. А в новостях сообщают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын проводит одно за другим испытания ядерной бомбы и грозится обрушить на проклятых империалистов и их подлых марионеток море огня. А от моего дома до границы километров тридцать, так что можно сказать, живу я практически на берегу обещанного вождем моря.
Вот читаю я эти новости, и вдруг раздается сирена, а затем включается громкоговоритель. Я и не знал, что они тут есть в каждом номере. И женский голос взволнованно произносит какие-то фразы на корейском языке. И повторяет. Очень взволнованно. Потом опять сирена, и все с начала.
Я подхожу к окну – и тут мимо на бешеной скорости проносятся два истребителя. В сторону северной границы.
«Ну, началось!» – думаю я.
Хватаю паспорт, бумажник, телефон и томик Чехова и бегу вниз, в бомбоубежище – которое здесь, разумеется, есть в каждом доме. Лифтами в таких случаях пользоваться нельзя, даже если их пока не отключили.
На бегу достаю телефон и принимаюсь искать номер корейского приятеля. Руки трясутся. На пятнадцатом этаже удается правильно набрать номер, на восьмом слышу ответ. Даю послушать объявление, которое и на лестнице звучит так же громко и так же взволнованно. На четвертом подношу трубку к уху и спрашиваю:
– Ну?
Он не очень хорошо говорит по-русски, поэтому не сразу находит нужные слова. Я успеваю добежать почти до первого этажа:
– Она… эта девушка… она говорит, что через час совсем не будет… не будет… как это по-русски…
– Ну!
– Горячей воды.
2018
Современное искусство с человеческим лицом
После публикации романа «Бес искусства» меня стали часто спрашивать, неужели я нигде и никогда не видел хорошего современного искусства?
– Никогда-никогда не видели ничего человеческого? Неужели везде и всюду только говно в коробочке?
Я попытался честно вспомнить хоть один случай – и вспомнил.
Дело было в Японии. Я прилетел туда с небольшой группой коллег, чтобы провести семинар по русскому языку и литературе. Собственно, в мои обязанности входило прочесть одну лекцию – и все, свободен, в оставшееся время можно было впитывать японскую культуру. При этом я знал, что пробуду в Японии всего три дня – ужасно обидно. Я даже придумал что-то вроде утешительной шутки, которой буду потом отвечать на вопросы, долго ли я там был: три года в Южной Корее, три месяца в Китае и три дня в Японии.
Естественно, что сразу по приезде, бросив вещи в гостинице, я побежал смотреть Токио. Точнее – не побежал, а пошел. И даже так: повлекся. Сил оставалось совсем чуть-чуть. Встать в шесть утра, доехать до Пулкова, долететь до Москвы, просидеть три дурацких часа в Шереметьеве, потом десятичасовой перелет, потом часа два от аэропорта до центра Токио – сколько всего получается? Лучше не считать. Короче говоря, чувствовал я себя узником НКВД на допросе, когда от тебя требуют признания, что ты, допустим, японский шпион, и не дают спать третьи сутки. Переминаешься на ватных ногах и пытаешься сообразить, какое из белых пятен – лампа, а какое – физиономия следователя.
К счастью, я заранее наметил четкий план, что и в каком порядке смотреть, и можно было действовать почти автоматически. Оперативно оторвавшись от коллег – любителей суши и сашими, – я отыскал заранее отмеченное на карте место: небоскреб, с которого смотрят на Фудзияму. Целый этаж – шестидесятый, кажется, – в этом здании отведен для созерцания священной горы. Я кое-как протолкался к стеклу, запечатлел на телефон синий конус на желтом фоне, а затем закрыл глаза и попытался прислушаться к своим чувствам. Ну надо же что-то почувствовать, когда видишь Фудзияму в первый и, скорее всего, последний раз в жизни? Однако я тут же понял, что обращение внутрь себя было грубой ошибкой. Пока работаешь с внешними раздражителями – разрезаешь толпу или, скажем, переходишь дорогу, – что-то держит рубильник сознания включенным. Стоит закрыть глаза – и все, тебя больше нет.
Поспешно их открыв, я направился дальше. Следующим по плану был знаменитый музей современного искусства, располагающийся в том же самом небоскребе двумя этажами выше. Тут у меня имелся хитрый расчет: бодрое чувство лютой ненависти, которое обычно вызывают в моем организме произведения актуальных художников, должно было помочь продержаться часа два. И первые полчаса все шло совсем неплохо. Холодные волны негодования, привычно набегавшие от произведений Кляйна и Кошута, приятно остужали голову и если не прогоняли, то на время отпугивали сон. Однако дальше стало хуже. Музей оказался очень большим. Он вмещал не только заслуженных и международно признанных жуликов, но и множество их японских подражателей. И от местных инсталляций набегали, как бывало в России, волны уже не лютой ненависти, а тихого, уютного презрения, что совсем не способствовало борьбе со сном. Пройдя десяток залов, я почувствовал: все, больше не могу. Я сейчас лягу на этот деревянный, чисто вымытый пол и засну. Пусть японские городовые бьют меня бамбуковыми палками по пяткам. Буду отвечать сквозь сон: «Гражданин начальник, я не японский шпион».
И тут совершилось чудо. Уже совсем собравшись рухнуть на пол, я увидел очень странную инсталляцию и решил прежде понять, что она значит.
Перед стеклянной стеной зала – с видом, кстати, все на ту же Фудзи – стояло на небольшом помосте очень старое, очень мягкое и, по-видимому, очень удобное кожаное кресло.
В том числе мой отец, умерший в 1983-м.
Говорят, что до середины 1960-х Лесной был самым зеленым районом города. Здесь были дачи и дачки, сады и садики, кусты сирени, клумбы с цветами, бескрайнее море сосен и соединенные канавами пруды – Золотой, Серебряный, Круглый. Это был полупригород, предместье, связанное с городом живой ниткой трамвайных рельсов. Девятый, восемнадцатый, тридцать второй, сороковой, пятьдесят третий – все с разноцветными огоньками – сходились на кольце у Политеха. Значительно сокращенный сороковой маршрут существует до сего дня. От прочих остался эфемерный след: линия трамвая на площади Мужества сворачивает на Второй Муринский точно в том же месте, что и сто лет назад, следуя изгибу снесенных домов.
Эту линию открыли первой в Петербурге, в 1886 году. Через сто лет система ленинградского трамвая стала самой большой в мире и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В новом Санкт-Петербурге от нее каждый год методично отрезают по куску, и очень скоро не останется совсем ничего.
Кроме воспоминаний.
От Института постоянного тока к дому с трубой шел переулок с чисто петербургским названием – Пустой. Помню, что по этому переулку я ходил в «булочную на Яшумова». Или это наваждение, аберрация памяти? Не мог я туда ходить, ведь интернет утверждает: известный с 1887 года Яшумов переулок частично уничтожен в 1950-е, а в 1964 году его остатки слились с улицей Курчатова. Но я ясно слышу голос покойной матери: «Через полчаса будем обедать. Сбегай-ка на Яшумова за хлебом».
Можно ли вообще что-то вспомнить о нашем городе?
В том же 1964 году Пустой переулок назвали именем Шателена. Мой дед работал с Михаилом Андреевичем Шателеном, есть фотография, где молодой дед (1903 г. р.) стоит за спиной почтенного господина с бородкой (1866 г. р.), они рассматривают какие-то серьезные графики. Дед умер, когда мне было тринадцать лет, о Шателене он не рассказывал, и это красивое французское слово так и осталось для меня переулком, до сих пор полупустым, поскольку всю его восточную сторону занимает длинный высокий забор, за которым расположена недоступная для простых смертных территория. Такие участки на карте города оставляют пустыми, закрасив серым цветом, и любой ленинградец покажет вам серый многоугольник рядом со своим домом, навеки огороженное пространство, вдоль стены которого он идет всю жизнь, никогда не попадая внутрь.
Наш город состоит из разнообразных пустот.
Где-то к 1990 году я осознал одну странную вещь. До тех пор мне казалось, что, гуляя по городу, я прохожу мимо Адмиралтейства, Академии художеств, Сената и Синода: любителю старых романов мерещилось, что он живет в Санкт-Петербурге. Осознал же я, что хожу мимо Военно-морского училища им. Дзержинского, Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, Исторического архива, причем попасть в эти здания по большей части трудно или совсем невозможно. Стало ясно – я живу в Ленинграде. Но ясность сохранялась недолго: в 1991 году город переименовали в Санкт-Петербург. Потом начали возвращать названия улиц, и появилась возможность прогуляться по Большой Морской, что твой Набоков. Спустя еще какое-то время Музей религии и атеизма (Казанский собор) стал проводить богослужения, покамест не убрав экспонаты, представлявшие ужасы инквизиции. А потом в здание Сената вернули высшую судебную инстанцию (чем и был Сенат на излете империи), и жить стало еще страннее.
Стоит что-то понять про этот город – ион тут же изменится.
Я гуляю по Политехническому парку, где знакома каждая тропинка: тысячу раз я проезжал по ним в детстве на велосипеде или пробегал трусцой, готовясь стать настоящим физиком. Вот самая красивая в мире водонапорная башня, часть кафедры гидротехники, маячившая в моем окне все детство. Вот Первый и Второй профессорские корпуса – лучшие места для жизни во всем городе. Памятная доска на Первом: здесь с 1902 по 1957 год жил выдающийся энергетик профессор М. А. Шателен. (Наш дом с трубой был де-факто третьим из корпусов, но не получил звания профессора, как и мой дед.) Вот Дом ученых в Лесном. Сюда нас водили в четвертом классе на встречу… – господи, какой же я старый! – на встречу с ветераном Гражданской войны, бойцом 25-й Чапаевской дивизии. Старик закусил зубами беломорину и прошелся по сцене церемониальным маршем, показывая, как на самом деле проходила психическая атака – неправильно, по его мнению, показанная в фильме «Чапаев» (сейчас историки уверены, что такой атаки не было вовсе). Сюда же мы ходили с родителями в кино. Точно знаю, что в канун 1978 года в Доме ученых шел фильм Чаплина «Огни рампы». Дату подсказывает воспоминание: когда возвращались домой по Политехническому парку, отец сказал, что актер, который играл в фильме главную роль и сочинил к нему удивительную музыку, вчера умер. Из самого фильма запомнилась почему-то только молитва старого клоуна. Когда его возлюбленная-балерина выходила на сцену, он опускался на колени за кулисами и молился так: «Господи, если ты есть, помоги ей».
Господи, если ты есть, не дай забыть все это.
Собираю по интернету фотографии Лесного и раскладываю их по порядку, начиная с XIX века. Листаю книгу «Лесной. Исчезнувший мир».
Вот Золотой пруд, по берегу которого, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Вот Серебряный пруд, на льду которого зимой 1928 года снялись на память юные хоккеисты 168-й школы, победившие в соревнованиях на первенство города. Вот памятник блокадному колодцу на уничтоженной Прибытковской улице; фотографии самого колодца не сохранились, и даже место его расположения неизвестно. Глубокий старик всматривается в застроенный чужими домами двор своего детства. Видите, здесь линия домов чуть-чуть изгибается? Это след прежней улицы, снесенной в 1960-х годах. Больше от нее ничего не осталось.
Кроме меня.
«Исчезли улицы: Новая, Лесная, Янковская, Объездная, Раздельная, Яковская, Ананьевская, Васильевская, Михайловская». «Исчезли сады и палисадники, сады и куртины, клены, ясени, плакучие березы, дубовые рощи, жасмин, сирень, бузина». Исчезли картины в тяжелых рамах, кровати с никелированными шишечками, дровяные сараи и деревянные церковки, фонари и фонарщики, песочницы и качели, ЖАКТы и управдомы, смешные собачки, разноцветные стекла на верандах и сами веранды. «Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь». «Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно».
Обрывки фотографий, дневников, мемуаров умерших людей:
«…7-го класса. Июнь 1942 года…»;
«… обстрелы нашего района из дальнобойных. Пока живы. Очень голодно…»;
«…вещи и бумаги таинственным образом исчезли после ее смерти…»;
«Не осталось даже яблонь».
Трамвай, который не сворачивал на пятачке на Второй Муринский, продолжал движение по Малой Спасской. Позади последнего вагона загибался полукругом воздушный шланг пневматического тормоза, именуемый в просторечии «колбасой». Повиснув на трамвайной колбасе, не попавшие внутрь пассажиры как ни в чем не бывало катились дальше по своим делам. Говорят, что именно от этого происходит всероссийски известное выражение – «катись колбаской по Малой Спасской».
Вот и все, что сохранилось в памяти народной от нашего района.
Они катились от действующего до сих пор трамвайного кольца возле копии берлинского Политеха, мимо памятника чистейшего банного конструктивизма, мимо дачи Шаляпина, мимо дома с трубой, мимо дач и дачек, садов и садиков, мимо кустов сирени, мимо частично выживших сосен и частично засыпанных прудов. Катились колбаской по Малой Спасской по направлению к центру города, к Адмиралтейству, к Академии художеств, к Сенату и Синоду, к местам, где по-прежнему стоят пятнадцать тысяч старых домов, переживших войну и Матвиенко, окруженных серыми пустотами, к местам, у которых редко бывает добрый гений, но обязательно есть история выживания.
2017
Привет от Ким Чен Ына
2016 год, весна. Я живу в пригороде Сеула, в университетском кампусе. Поселили меня в студенческом общежитии, но в отдельном номере, на верхнем, двадцатом этаже. Дом к тому же стоит на холме, и из окна открывается совершенно захватывающий вид на такие же двадцатиэтажные дома до самого горизонта. А за горизонтом, страшно сказать, – Северная Корея.
И вот сижу я дома, пишу статью, а иногда, чтобы отвлечься, почитываю новости. А в новостях сообщают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын проводит одно за другим испытания ядерной бомбы и грозится обрушить на проклятых империалистов и их подлых марионеток море огня. А от моего дома до границы километров тридцать, так что можно сказать, живу я практически на берегу обещанного вождем моря.
Вот читаю я эти новости, и вдруг раздается сирена, а затем включается громкоговоритель. Я и не знал, что они тут есть в каждом номере. И женский голос взволнованно произносит какие-то фразы на корейском языке. И повторяет. Очень взволнованно. Потом опять сирена, и все с начала.
Я подхожу к окну – и тут мимо на бешеной скорости проносятся два истребителя. В сторону северной границы.
«Ну, началось!» – думаю я.
Хватаю паспорт, бумажник, телефон и томик Чехова и бегу вниз, в бомбоубежище – которое здесь, разумеется, есть в каждом доме. Лифтами в таких случаях пользоваться нельзя, даже если их пока не отключили.
На бегу достаю телефон и принимаюсь искать номер корейского приятеля. Руки трясутся. На пятнадцатом этаже удается правильно набрать номер, на восьмом слышу ответ. Даю послушать объявление, которое и на лестнице звучит так же громко и так же взволнованно. На четвертом подношу трубку к уху и спрашиваю:
– Ну?
Он не очень хорошо говорит по-русски, поэтому не сразу находит нужные слова. Я успеваю добежать почти до первого этажа:
– Она… эта девушка… она говорит, что через час совсем не будет… не будет… как это по-русски…
– Ну!
– Горячей воды.
2018
Современное искусство с человеческим лицом
После публикации романа «Бес искусства» меня стали часто спрашивать, неужели я нигде и никогда не видел хорошего современного искусства?
– Никогда-никогда не видели ничего человеческого? Неужели везде и всюду только говно в коробочке?
Я попытался честно вспомнить хоть один случай – и вспомнил.
Дело было в Японии. Я прилетел туда с небольшой группой коллег, чтобы провести семинар по русскому языку и литературе. Собственно, в мои обязанности входило прочесть одну лекцию – и все, свободен, в оставшееся время можно было впитывать японскую культуру. При этом я знал, что пробуду в Японии всего три дня – ужасно обидно. Я даже придумал что-то вроде утешительной шутки, которой буду потом отвечать на вопросы, долго ли я там был: три года в Южной Корее, три месяца в Китае и три дня в Японии.
Естественно, что сразу по приезде, бросив вещи в гостинице, я побежал смотреть Токио. Точнее – не побежал, а пошел. И даже так: повлекся. Сил оставалось совсем чуть-чуть. Встать в шесть утра, доехать до Пулкова, долететь до Москвы, просидеть три дурацких часа в Шереметьеве, потом десятичасовой перелет, потом часа два от аэропорта до центра Токио – сколько всего получается? Лучше не считать. Короче говоря, чувствовал я себя узником НКВД на допросе, когда от тебя требуют признания, что ты, допустим, японский шпион, и не дают спать третьи сутки. Переминаешься на ватных ногах и пытаешься сообразить, какое из белых пятен – лампа, а какое – физиономия следователя.
К счастью, я заранее наметил четкий план, что и в каком порядке смотреть, и можно было действовать почти автоматически. Оперативно оторвавшись от коллег – любителей суши и сашими, – я отыскал заранее отмеченное на карте место: небоскреб, с которого смотрят на Фудзияму. Целый этаж – шестидесятый, кажется, – в этом здании отведен для созерцания священной горы. Я кое-как протолкался к стеклу, запечатлел на телефон синий конус на желтом фоне, а затем закрыл глаза и попытался прислушаться к своим чувствам. Ну надо же что-то почувствовать, когда видишь Фудзияму в первый и, скорее всего, последний раз в жизни? Однако я тут же понял, что обращение внутрь себя было грубой ошибкой. Пока работаешь с внешними раздражителями – разрезаешь толпу или, скажем, переходишь дорогу, – что-то держит рубильник сознания включенным. Стоит закрыть глаза – и все, тебя больше нет.
Поспешно их открыв, я направился дальше. Следующим по плану был знаменитый музей современного искусства, располагающийся в том же самом небоскребе двумя этажами выше. Тут у меня имелся хитрый расчет: бодрое чувство лютой ненависти, которое обычно вызывают в моем организме произведения актуальных художников, должно было помочь продержаться часа два. И первые полчаса все шло совсем неплохо. Холодные волны негодования, привычно набегавшие от произведений Кляйна и Кошута, приятно остужали голову и если не прогоняли, то на время отпугивали сон. Однако дальше стало хуже. Музей оказался очень большим. Он вмещал не только заслуженных и международно признанных жуликов, но и множество их японских подражателей. И от местных инсталляций набегали, как бывало в России, волны уже не лютой ненависти, а тихого, уютного презрения, что совсем не способствовало борьбе со сном. Пройдя десяток залов, я почувствовал: все, больше не могу. Я сейчас лягу на этот деревянный, чисто вымытый пол и засну. Пусть японские городовые бьют меня бамбуковыми палками по пяткам. Буду отвечать сквозь сон: «Гражданин начальник, я не японский шпион».
И тут совершилось чудо. Уже совсем собравшись рухнуть на пол, я увидел очень странную инсталляцию и решил прежде понять, что она значит.
Перед стеклянной стеной зала – с видом, кстати, все на ту же Фудзи – стояло на небольшом помосте очень старое, очень мягкое и, по-видимому, очень удобное кожаное кресло.