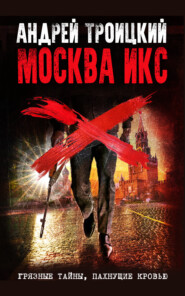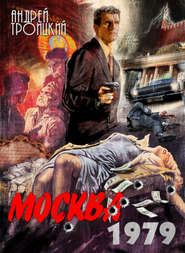По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Капкан на честного лоха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Урманцев остановился. Хомяков зашел ему за спину, дернул за воротник куртки.
– Скидавай кишки, – приказал он.
С сожалением, которого не смог скрыть, Урманцев расстегнул «молнию» куртки, Хомяков тем временем сбросил на землю казенный бушлат. Принял куртку и проворно натянул её на себя. Хомяков погладил ладонью теплую клетчатую подкладку и даже вздохнул: такая одежда не то что тело, саму душу греет.
– Теперь шкары, прохаря и кепарь скидавай, – сказал он.
Урманцев бросил на землю кепку, расстегнул цивильные брюки, скинул высокие, на рифленой подошве ботинки. Остался в драных носках и казенных бумажных кальсонах, проштампованным спереди и сзади черными треугольными печатями.
Пока Хомяк с блуждающей на лице блаженной улыбкой напяливал обновки, Лудник держал Урманцева на мушке. Неожиданно подал голос Цыганков.
– Пожалуйста, не бросайте. Тут менты прихватят или сам загнешься. Западло меня кидать. Возьмите…
Лудник отрицательно покачал головой.
– Против тебя, Джем, я ничего не имею, – сказал он. – Но тут гражданской одежды на два рыла. А в твоем бушлате далеко не уйдешь. Ты здесь лишний. Без обид.
Цыганков, кажется, хотел упасть на колени и завыть в голос, по-бабьи. Но сообразил, что перед Лудником в ногах валяться – только его смешить, а не жалобить. Вытирая сопливый нос кулаком, Цыганков остался стоять, где стоял. Хомяков открыл заднюю дверцу, оглянулся на Урманцева.
– Ну, что, Солома? – улыбаясь спросил Хомяков. – Как будем делить все это? Поровну или по-братски?
Урманцев не ответил. Тогда Хомяк выбросил на землю старые сапоги, казенные штаны, черную шапку из потертого искусственного меха. Подумав мгновение, Хомяк бросил и двухместную палатку, упакованную в брезентовый на ремне чехол. За палаткой последовали два почти полных мешка, к которым ещё на зоне пришили продольные лямки, получилось что-то вроде рюкзаков.
Эти холщовые мешки были спрятаны в подвале недостроенного мебельного цеха, в тайнике на промышленной зоне. Мешки наполнял Климов, постепенно, день за днем выносил на промку то теплые носки и белье, то вяленую рыбу, то вареную и высушенную на железном листе над костром кашу, то сухари. Мешки понемногу росли и пухли, а он все таскал и таскал, рискуя быть пойманным, получить как тридцать дней штрафного изолятора, а то и новый долгий срок за подготовку побега.
Месяца полтора назад, встретив в условленном месте Урманцева, Климов сказал: «Не понимаю, на кой черт нам нужны на воле эти сухари и сушеная каша? Я же башкой рискую, когда прячу все это на промке. На воле у нас будет нормальный хлеб, консервы и вообще все, что требуется». «Слушай, давай не будем на ля-ля время тратить, – ответил тогда Урманцев. – Сказал тебе, набить харчем полтора-два мешка – ты делай. Или…» «Хорошо, хорошо», – поспешил согласиться Климов.
И вот теперь выясняется, что Урманцев был прав по всем статьям. Будто все наперед знал.
Хомяк захлопнул заднюю дверцу. В «газике» остались ящик тушенки, ящик рыбных консервов, сало, свежий хлеб. Плюс к тому множество других не менее ценных вещей: теплое белье, лопата, топор, фляжка со спиртом, кружки, компас, фонарь и ещё бог знает что. И, главное, в машине осталась карта. Это невосполнимая потеря.
Неторопливый Хомяков обошел «газик» спереди, залез на водительское место, хлопнул дверцей. Лудник, пятясь задом, не опуская пистолета, забрался на пассажирское сиденье.
Собравшись с духом, Климов шагнул вперед, к машине.
– Послушайте, – сказал он. – Ведь это наша машина. Моя и Соломы. Наши харчи. Наша одежда. Мы имеем право. Можем рассчитывать хотя бы…
– Пошел к такой матери, чмошник, – коротко ответил Лудник.
Климов двинулся в его сторону.
– Еще шаг – и я тебя кончу, – тихо предупредил Лудник.
Климов остановился. Возможно, Лудник и шмальнул бы не одного Климова, всех троих положил из своей пушки, на нем кровь того мента и терять уже нечего. Но Лудник не выстрелил. Может, не людей пожалел, а патроны.
«Газик» тронулся с места, Лудник уже на ходу хлопнул дверцей. Цыганков прижал ладони к груди, зашмыгал мокрым носом, в его глазах стояли слезы несправедливой обиды.
– Западло, – прошептал Цыганков. – Взяли нас на прихват, крысятники.
Климов сам был готов разрыдаться, он долго смотрел вслед удалявшейся машине. «Газик» увозил водителя и пассажира к новой свободной жизни. Количество билетов в эту новую счастливую жизнь ограничено, на всех не хватило. Поезд ушел, прыгать на заднюю подножку слишком поздно.
Урманцев стал натягивать на себя казенные штаны. Закончив с этим делом, уселся на мешок, вытащил из голенища сапога две пары грязноватых портянок: теплых байковых и бумажных.
Он долго вертел перед самым носом сапоги. Плохая обувка, непригодная для дальних пеших переходов. Подошва скользкая, сбитая, низ сапог из грубой свиной кожи, которая трет ноги при ходьбе. Голенища сшиты из пропитанного смолой брезента. Нитки потерлись, того и гляди лопнут. Урманцев натянул сапоги, нахлобучил на голову шапку, тронул Климова за плечо.
– Надо идти, – сказал он. – Нельзя надолго останавливаться.
– Надо, – повторил Климов. – Но куда идти?
– А как же я? – выступил притихший, расстроенный чуть ли не до слез Цыганков. – А меня?
Урманцев показал пальцем вперед, в том направлении, где за горизонтом исчезла машина.
– А ты вроде бы с ними собирался, – сказал он.
– Я пропаду тут один. И если уж менты меня загребут, молчать не стану. Все скажу.
– Пусть идет с нами, – попросил за Цыганкова Климов. – Оставлять его тут все равно нельзя.
– А кормить его ты будешь? – усмехнулся Урманцев. – Грудью?
– Я много не съем, – жалобно пропищал Цыганков.
Урманцев не ответил, лишь как-то загадочно криво усмехнулся, пожал плечами. Поднял с земли мешок, напросил на плечо брезентовые лямки, на другое плечо повесил палатку в чехле. Климов взял другой мешок. Урманцев зашагал по следу, проложенному «газиком» по мягкому грунту, Климов пошел за ним, отстав на несколько шагов.
Цыганков, постояв минуту в раздумье, заспешил следом.
* * *
В десять вечера майор Ткаченко связался по рации с начальником колонии Соболевым и доложил, что попусту прокатался в Молчан. Информацию, полученную на месте, можно было узнать от районного прокурора, не вылезая из кабинета.
Машина, по-видимому, с беглыми зэками, проследовала вдоль поселка приблизительно в полдень, в кабине несколько мужчин, пятеро или четверо. Те, что сидели спереди, одеты в гражданскую одежду: куртки зеленого и синего цвета. И главное: номер «газика» начинается с двух восьмерок. Машина объявлена в розыск, но надеяться на скорые результаты не стоит.
– Будешь возвращаться? – спросил Соболев.
– Не для того я почти сто верст отмахал, – ответил Ткаченко. – Заночуем здесь, в поселковом правлении. Авось, утром передадут что-нибудь новенькое. Должны же эти черти где-то вынырнуть.
Соболев пожелал майору удачи и отправился домой, предупредив дежурного, чтобы в экстренном случае беспокоили его без всякого стеснения. Дорогой через овраг Соболев дотопал до дома, тихо отпер дверь, снял в прихожей шинель и сапоги, посмотрел на часы. Без четверти одиннадцать, дети спят.
Павел Сергеевич переоделся, заглянул в большую комнату и, изобразив на лице кислую гримасу, лишь отдаленно напоминавшую улыбку, сказал, что поработает с бумагами в своей комнате. Жена кивнула, она смотрела по телеку фильм и не хотела отвлекаться. Соболев сам когда-то видел эту скучную мелодрама с бесконечными диалогами, в которых тонет действие. Перед просмотром можно не принимать снотворного, и так заснешь.
Соболев соврал жене, у него не было бумаг, с которыми требовалось поработать. Но в данную минуту он не желал пялиться в телевизор, прозванный в поселке мусоропроводом, а главное, тяготился обществом жены, её печальным видом, грустными глазами. Закрыв дверь в свой домашний кабинет, Соболев включил транзисторный приемник.
Усевшись в кресле у окна, он задрал ноги на подоконник и стал отхлебывать из стакана крепкий чай. Соболев не слушал выпуск новостей, который передавали по радио, а сосредоточился на своих мыслях, которые не додумал днем в рабочем кабинете. На мыслях о подлой сущности человеческой породы.
Без малого восемь лет, как он начальник колонии. Когда принимал хозяйство, все здесь пропахло запустением и упадком. За прошедшие годы столько дел наворочали.
Даже никуда не годные доходные инвалиды теперь работают на швейном производстве. А ещё теплицы, а ещё свиноферма и коровник. И, наконец, гордость Соболева – мебельный цех, который все растет, укрупняется. Мебель, что делают здесь зэки, ничем не хуже европейских образцов. Хоть на всемирную выставку отправляй – и останешься с медалью.