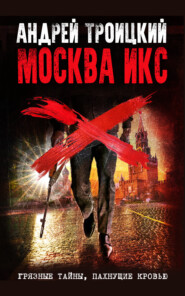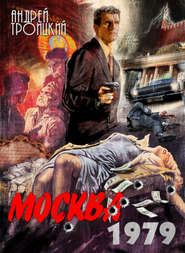По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Напролом
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, что скажешь?
Девяткин мрачно сдвинул брови и посмотрел на задержанного таким страшным уничтожающим взглядом, что Клюеву показалось, по спине пробежала стая крупных муравьев, а редкие волосы на ногах зашевелились и встали дыбом. Клюев поежился и передернул плечами, как в ознобе.
– Что тут скажешь, гражданин начальник? Виноват, исправлюсь.
Прищурившись, Клюев покосился на дубину, лежавшую на столе. При ближайшем рассмотрении дубина оказалась вовсе не резиновой, а деревянной, крашенной в черный цвет, под резиновую. Если начальник засадит этим инструментом промеж спины, мало не покажется. На стену полезешь.
Девяткин копался спичкой во рту, выковыривая остатки завтрака. Он раздумывал над альтернативой: набить ли Клюеву морду или поставить его лицом к письменному столу, руки на столешницу, зайти сзади и с маху навернуть по худой заднице дубиной. Проверенный способ. Боль такая, что вырубаешь человека одним ударом. И Клюеву память: не сможет по-человечески посидеть за бутылкой, по крайней мере, неделю. Девяткин вытащил застрявшее между зубов мясное волокно и решил, что пора завязывать с диетической столовой.
Лучше он станет сам себе готовить завтрак, как было раньше. Точка, решено. По крайней мере, не будет изжоги и этого ежеутреннего ковыряния в зубах. Девяткин взял в руки дубину, но в последний момент передумал. Есть ведь ещё вариант: ограничиться строгим словесным внушением.
Как– никак Клюев не вокзальный баклан. Он по здешним невысоким меркам чуть не высшей пробы интеллигент, белый воротничок. Образование высшее, преподавал в железнодорожном техникуме, который три года назад успешно закрыли. Ладно, пускай Клюев пока живет и дышит. Но уж в следующий раз, когда он попадет в КПЗ, Девяткин дубины не пожалеет. И уж тем более не пожалеет самого Клюева.
– Ты где сейчас работаешь? – спросил Девяткин, хотя знал ответ.
– Временно безработный, – Клюев скромно опустил глаза.
– Точнее, тунеядец.
Клюев нашел в себе силы робко возразить.
– Сейчас тунеядство по закону не преследуется.
Девяткин, не терпевший пререканий в собственном кабинете, взорвался.
– А мне насрать, что там преследуется по закону, а что не преследуется. Ты, умник, залупа с сыром, через неделю положишь на этот стол справку с места работы. В этом паршивом городишке такие порядки: как я сказал, так и будет. Устроишься и принесешь сюда справку. Я не стану дожидаться, когда ты нажрешься и снова на жену с кулаками полезешь. Если через неделю не будет справки, считай, ты уже сел. Надолго.
– За что сел?
– Это уж моя проблема. Статей много, подберу тебе по знакомству что-нибудь этакое. Долгоиграющее.
Клюев тяжело засопел, задвигал мокрым носом.
– Сейчас на работу трудно устроиться. Очень трудно.
– Устроишься, гад, если захочешь. На картонажной фабрике упаковщицы нужны. Иди туда сегодня же и пиши заявление.
– Так это ведь бабская работа.
– А ты что, мужик?
Девяткин смерил Клюева взглядом и вдруг рассмеялся собственной шутке, которая была не лишена смысла и даже остроумия. Клюев вытер со лба пот, он понял, что на этот раз пронесло, худшее позади. Начальник смеется, значит, он сменил гнев на милость и не станет молотить Клюева ни кулаками, ни своей страшной дубиной. Клюев перевел дух и выпрямил согбенную спину.
– Я потерял нравственные ориентиры, – пожаловался он. – В прежние времена я думал, что земля держится не на трех китах, а на трех рублях и ещё шестидесяти двух копейках. А теперь и не знаю, на чем мир держится… Может, на человеческой доброте?
– На терпении твоей жены, вот на чем, – сказал Девяткин. – И ещё на моем терпении. Не донимай меня своей гнилой философией. В следующий раз, когда жена пожалуется на тебя, когда ты поднимешь на неё руку…
– Я все понял, начальник, – Клюев шмыгнул мокрым носом. – Ни Боже мой. Не подниму. Ни в жисть.
– Дослушай, тупая жопа. Так вот, если ты ещё раз её тронешь… Нет, я передумал. Не стану я тебя на зону отправлять. Много для тебя, ублюдка, чести казенную баланду жрать. Поступим проще. Из этого кабинета тебя вынесут вперед ногами. Вперед твоими грязными паршивыми ногами.
Клюев обхватил руками голову и громко всхлипнул. Кажется, он собрался заранее оплакать свою безвременно оборвавшуюся жизнь. Девяткин продолжил:
– Ты знаешь, я своих слов не нарушаю. А медицинский эксперт напишет заключение, что ты отбросил копыта от сердечной недостаточности. Или от приступа радикулита. У тебя ведь радикулит? Вот и чудесно. Тебя сожгут, как бревно, и похоронят в безымянной могиле. Рядом с бомжами и шлюхами. Такими же отбросами, как ты. Похоронят там, потому что твоя жена не станет тратиться на похороны такого ублюдка. Потому что ей вспомнить нечего, кроме синяков.
Девяткин дал себе передышку, закурил.
– Сейчас же на фабрику бегу, – пообещал Клюев. – Одна нога здесь, другая уже на фабрике. Я и сам хотел туда идти устраиваться, но сомневался. Но теперь, поскольку вы рекомендуете… Поскольку вы советуете…
– Да, да. Очень тебе советую.
– Можно спросить? Правду говорят, что вы при задержании Клопа подстрелили?
Значит, уже весь город знает. Вот, даже сюда, в КПЗ, слухи дошли.
– Дверь у тебя за спиной, – сказал Девяткин. – Проваливай. На неделе придешь со справкой.
* * * *
Клюев снова согнул спину в вопросительный знак и неслышными крадущимися шагами вышел из кабинета. Девяткин заглянул в протокол. Клюеву полагается заплатить штраф, но денег у него, разумеется, нет. Значит, жене за мужа платить придется. Все правильно, все по справедливости: её избили, она же и деньги плати. Девяткин разорвал протокол вдоль и поперек, бросил квадратные бумажки в корзину.
Так, с Клюевым он разобрался. Кто следующий?
Он заглянул в протокол. Некто Валуев. Опять старый знакомый, злостный алиментщик и пьяница. Устроил дебош в пивной «Креветка», облил водкой официанта и дважды плюнул ему в лицо. Валуев страдал страстью к перемене мест, как память о себе, оставляя очередной брошенной женщине очередного младенца. Доподлинно известно, что последние пару лет Валуев жил на Камчатке и даже знал несколько слов по корякски. И вот нелегкая занесла его в Степановск.
Девяткин уже беседовал с любвеобильным Валуевым по душам, без мордобоя. Тогда Валуев сказал: «Любить женщину – это все равно, что идти по тундре с завязанными глазами. Куда идешь – не известно. Но все время проваливаешься, ноги вязнут во мхах. И, в конечном итоге, все кончается плохо, совсем плохо». Интересно, что этот умник на этот раз скажет? Чтобы завтра же духа Валуева в городе не было, – решил Девяткин. Нет, сегодня же. Душевные разговоры кончились. Девяткин испытал странный зуд в сжатых кулаках.
Теперь он с Валуевым он церемониться не станет. Девяткин протянул руку, чтобы нажать кнопку с селекторной связи с дежурным, но тут зазвенела длинная трель междугороднего звонка. Девяткин снял трубку и не узнал далекий женский голос.
– Я у телефона, – дважды повторил он.
– Это Ирина Павловна говорит, жена Леонида Тимонина, – сказала женщина. – Простите за беспокойство…
– Какое уж там беспокойство.
– Как ваши дела? – спросила Тимонина.
Ясно, вопрос задан из вежливости. Видимо, Ирина Павловна и не ждала длинного распространенного ответа. Поэтому Девяткин ответил коротко и правдиво.
– Дела так себе, паршивенько. А что у вас? Как Москва, шумит?
– Шумит. А у нас… У меня, – от волнения Тимонина запуталась в словах. – Короче, случилось несчастье.
Долгая пауза, которую Девяткин выдержал, решив не задавать наводящие вопросы. Так уж получилось, что по этому номеру, в этот кабинет благополучные и счастливые люди никогда не звонили. Но пауза сильно затянулась.
– Что-то с Леней? – спросил Девяткин.
– Да, с Леней. Неделю назад, в прошлый понедельник, за ним приехала машина. Ну, чтобы на работу его отвезти. Леня остановил машину возле Центрального телеграфа на Тверской. Велел водителю ждать. Он вышел и больше не вернулся. Вот и все. Мы с Леней женаты уже три года. За это время не было ни одной ночи, чтобы он не ночевал дома. Я думаю, вернее, я знаю, что случилось самое худшее.
Девяткин мрачно сдвинул брови и посмотрел на задержанного таким страшным уничтожающим взглядом, что Клюеву показалось, по спине пробежала стая крупных муравьев, а редкие волосы на ногах зашевелились и встали дыбом. Клюев поежился и передернул плечами, как в ознобе.
– Что тут скажешь, гражданин начальник? Виноват, исправлюсь.
Прищурившись, Клюев покосился на дубину, лежавшую на столе. При ближайшем рассмотрении дубина оказалась вовсе не резиновой, а деревянной, крашенной в черный цвет, под резиновую. Если начальник засадит этим инструментом промеж спины, мало не покажется. На стену полезешь.
Девяткин копался спичкой во рту, выковыривая остатки завтрака. Он раздумывал над альтернативой: набить ли Клюеву морду или поставить его лицом к письменному столу, руки на столешницу, зайти сзади и с маху навернуть по худой заднице дубиной. Проверенный способ. Боль такая, что вырубаешь человека одним ударом. И Клюеву память: не сможет по-человечески посидеть за бутылкой, по крайней мере, неделю. Девяткин вытащил застрявшее между зубов мясное волокно и решил, что пора завязывать с диетической столовой.
Лучше он станет сам себе готовить завтрак, как было раньше. Точка, решено. По крайней мере, не будет изжоги и этого ежеутреннего ковыряния в зубах. Девяткин взял в руки дубину, но в последний момент передумал. Есть ведь ещё вариант: ограничиться строгим словесным внушением.
Как– никак Клюев не вокзальный баклан. Он по здешним невысоким меркам чуть не высшей пробы интеллигент, белый воротничок. Образование высшее, преподавал в железнодорожном техникуме, который три года назад успешно закрыли. Ладно, пускай Клюев пока живет и дышит. Но уж в следующий раз, когда он попадет в КПЗ, Девяткин дубины не пожалеет. И уж тем более не пожалеет самого Клюева.
– Ты где сейчас работаешь? – спросил Девяткин, хотя знал ответ.
– Временно безработный, – Клюев скромно опустил глаза.
– Точнее, тунеядец.
Клюев нашел в себе силы робко возразить.
– Сейчас тунеядство по закону не преследуется.
Девяткин, не терпевший пререканий в собственном кабинете, взорвался.
– А мне насрать, что там преследуется по закону, а что не преследуется. Ты, умник, залупа с сыром, через неделю положишь на этот стол справку с места работы. В этом паршивом городишке такие порядки: как я сказал, так и будет. Устроишься и принесешь сюда справку. Я не стану дожидаться, когда ты нажрешься и снова на жену с кулаками полезешь. Если через неделю не будет справки, считай, ты уже сел. Надолго.
– За что сел?
– Это уж моя проблема. Статей много, подберу тебе по знакомству что-нибудь этакое. Долгоиграющее.
Клюев тяжело засопел, задвигал мокрым носом.
– Сейчас на работу трудно устроиться. Очень трудно.
– Устроишься, гад, если захочешь. На картонажной фабрике упаковщицы нужны. Иди туда сегодня же и пиши заявление.
– Так это ведь бабская работа.
– А ты что, мужик?
Девяткин смерил Клюева взглядом и вдруг рассмеялся собственной шутке, которая была не лишена смысла и даже остроумия. Клюев вытер со лба пот, он понял, что на этот раз пронесло, худшее позади. Начальник смеется, значит, он сменил гнев на милость и не станет молотить Клюева ни кулаками, ни своей страшной дубиной. Клюев перевел дух и выпрямил согбенную спину.
– Я потерял нравственные ориентиры, – пожаловался он. – В прежние времена я думал, что земля держится не на трех китах, а на трех рублях и ещё шестидесяти двух копейках. А теперь и не знаю, на чем мир держится… Может, на человеческой доброте?
– На терпении твоей жены, вот на чем, – сказал Девяткин. – И ещё на моем терпении. Не донимай меня своей гнилой философией. В следующий раз, когда жена пожалуется на тебя, когда ты поднимешь на неё руку…
– Я все понял, начальник, – Клюев шмыгнул мокрым носом. – Ни Боже мой. Не подниму. Ни в жисть.
– Дослушай, тупая жопа. Так вот, если ты ещё раз её тронешь… Нет, я передумал. Не стану я тебя на зону отправлять. Много для тебя, ублюдка, чести казенную баланду жрать. Поступим проще. Из этого кабинета тебя вынесут вперед ногами. Вперед твоими грязными паршивыми ногами.
Клюев обхватил руками голову и громко всхлипнул. Кажется, он собрался заранее оплакать свою безвременно оборвавшуюся жизнь. Девяткин продолжил:
– Ты знаешь, я своих слов не нарушаю. А медицинский эксперт напишет заключение, что ты отбросил копыта от сердечной недостаточности. Или от приступа радикулита. У тебя ведь радикулит? Вот и чудесно. Тебя сожгут, как бревно, и похоронят в безымянной могиле. Рядом с бомжами и шлюхами. Такими же отбросами, как ты. Похоронят там, потому что твоя жена не станет тратиться на похороны такого ублюдка. Потому что ей вспомнить нечего, кроме синяков.
Девяткин дал себе передышку, закурил.
– Сейчас же на фабрику бегу, – пообещал Клюев. – Одна нога здесь, другая уже на фабрике. Я и сам хотел туда идти устраиваться, но сомневался. Но теперь, поскольку вы рекомендуете… Поскольку вы советуете…
– Да, да. Очень тебе советую.
– Можно спросить? Правду говорят, что вы при задержании Клопа подстрелили?
Значит, уже весь город знает. Вот, даже сюда, в КПЗ, слухи дошли.
– Дверь у тебя за спиной, – сказал Девяткин. – Проваливай. На неделе придешь со справкой.
* * * *
Клюев снова согнул спину в вопросительный знак и неслышными крадущимися шагами вышел из кабинета. Девяткин заглянул в протокол. Клюеву полагается заплатить штраф, но денег у него, разумеется, нет. Значит, жене за мужа платить придется. Все правильно, все по справедливости: её избили, она же и деньги плати. Девяткин разорвал протокол вдоль и поперек, бросил квадратные бумажки в корзину.
Так, с Клюевым он разобрался. Кто следующий?
Он заглянул в протокол. Некто Валуев. Опять старый знакомый, злостный алиментщик и пьяница. Устроил дебош в пивной «Креветка», облил водкой официанта и дважды плюнул ему в лицо. Валуев страдал страстью к перемене мест, как память о себе, оставляя очередной брошенной женщине очередного младенца. Доподлинно известно, что последние пару лет Валуев жил на Камчатке и даже знал несколько слов по корякски. И вот нелегкая занесла его в Степановск.
Девяткин уже беседовал с любвеобильным Валуевым по душам, без мордобоя. Тогда Валуев сказал: «Любить женщину – это все равно, что идти по тундре с завязанными глазами. Куда идешь – не известно. Но все время проваливаешься, ноги вязнут во мхах. И, в конечном итоге, все кончается плохо, совсем плохо». Интересно, что этот умник на этот раз скажет? Чтобы завтра же духа Валуева в городе не было, – решил Девяткин. Нет, сегодня же. Душевные разговоры кончились. Девяткин испытал странный зуд в сжатых кулаках.
Теперь он с Валуевым он церемониться не станет. Девяткин протянул руку, чтобы нажать кнопку с селекторной связи с дежурным, но тут зазвенела длинная трель междугороднего звонка. Девяткин снял трубку и не узнал далекий женский голос.
– Я у телефона, – дважды повторил он.
– Это Ирина Павловна говорит, жена Леонида Тимонина, – сказала женщина. – Простите за беспокойство…
– Какое уж там беспокойство.
– Как ваши дела? – спросила Тимонина.
Ясно, вопрос задан из вежливости. Видимо, Ирина Павловна и не ждала длинного распространенного ответа. Поэтому Девяткин ответил коротко и правдиво.
– Дела так себе, паршивенько. А что у вас? Как Москва, шумит?
– Шумит. А у нас… У меня, – от волнения Тимонина запуталась в словах. – Короче, случилось несчастье.
Долгая пауза, которую Девяткин выдержал, решив не задавать наводящие вопросы. Так уж получилось, что по этому номеру, в этот кабинет благополучные и счастливые люди никогда не звонили. Но пауза сильно затянулась.
– Что-то с Леней? – спросил Девяткин.
– Да, с Леней. Неделю назад, в прошлый понедельник, за ним приехала машина. Ну, чтобы на работу его отвезти. Леня остановил машину возле Центрального телеграфа на Тверской. Велел водителю ждать. Он вышел и больше не вернулся. Вот и все. Мы с Леней женаты уже три года. За это время не было ни одной ночи, чтобы он не ночевал дома. Я думаю, вернее, я знаю, что случилось самое худшее.