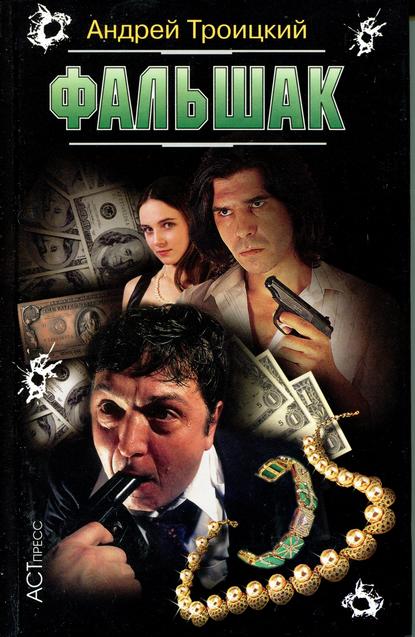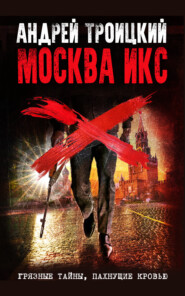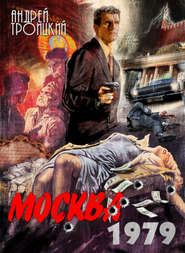По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фальшак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– На хер гарантии. Да или нет?
– Да, – выпалил Архипов. – Да, черт побери.
– Тогда звони своему Бирюкову.
* * *
В воскресное утро холл гостиничный холл пустовал. Где-то монотонно гудела поломоечная машина, пожилая чета иностранцев в сопровождении переводчицы направлялась к стоящему у подъезда темному автомобилю. Сонный администратор, мужчина неопределенных лет, одетый в фирменную голубую рубашку и темный галстук, лениво перебирал бумажки и вздыхал. Тыкая пальцами в клавиатуру компьютера, вспоминал бессонную ночь, на которую пришелся большой заезд туристов из Италии. Одноместные номера нашлись не для всех, хотя и были заранее заказаны туристической фирмой. Скандала удалось избежать каким-то чудом, иностранцы до завтрашнего утра согласились на двухконечные полулюксы.
Бирюков, чисто выбритый, натянувший свой лучший костюм, встал перед стойкой и покашлял в кулак.
– Моя фамилия Бирюков, – сказал он. – Вам должен был позвонить насчет меня заместитель управляющего…
Администратор посмотрел на раннего посетителя туманными сонными глазами, кивнул головой.
– Как же, помню. Он попросил впустить вас без пропуска.
– Хочу нагрянуть к своему однокашнику. Сделать ему сюрприз. Он один в чужом городе, он никого не ждет, уже близок первый приступ ностальгии, и тут…
– М-да, понимаю. И тут появляетесь вы, – продолжил администратор. За долгие годы работы в гостинице подобные сюрпризы давно превратились для него в кошмары повседневной работы. Ты никого не ждешь, а к тебе валом валит народ. – Появляетесь вы во всем своем великолепии. Сваливаетесь, как снег на голову. Как кирпич. А в сумке, разумеется, коньяк.
– Водка.
– Какая гадость, особенно с утра. Идите. Я позвоню на этаж, вас пропустят.
– Совсем забыл, – Бирюков приложил ладонь ко лбу. – Через полчаса подойдет девочка. В тот же номер. Пропустите и ее.
– О девочке разговора не было. По правилам этого не полагается.
– Тогда не получится никакого сюрприза.
– Ладно, пущу, – у администратора не осталось сил для препирательств.
Не спросив документов, он лишь устало махнул рукой. Бирюков лифтом поднялся на шестой этаж, прошел мимо пустого столика дежурной по этажу. На ходу повесил сумку на плечо. Остановился перед шестьсот двенадцатым номером, опустил вниз ручку, надавил на дверь плечом. Заперто. Настойчивый стук. В прихожей послышались шаги. Едва замок щелкнул, Бирюков с силой толкнул дверь. Хозяин номера, только что принявший душ и накинувший длинный шелковый халат не был готов к борьбе. Он отлетел в глубину тесного коридорчика, натолкнувшись спиной на раскрытую дверцу стенного шкафа.
– Какого хрена тут…
Дашкевич не успел закончить свою мысль, не успел опомниться, как незваный гость уже запер замок и, вытащив из-под брючного ремня пистолет. Ствол уперся в мягкий живот. Бирюков, ухватив директора свободной рукой за лацканы халата, протащил в комнату. Толкнул на кровать. Дашкевич упал задом на матрас, он моргал глазами, стараясь понять, что за ураган на него налетел, откуда взялся этот хмырь с пистолетом.
– Вы что? Что… себе позволяете? – прошептали мертвеющие от страха губы. Он не успел разглядеть лица нападавшего, но отчетливо видел темное пистолетное дуло, направленное между глаз.
– Эй, чувак, проснись, – сказал Бирюков. – Ты храпишь.
Дашкевич поднял голову.
– Господи, это ты, – сказал он и вздохнул. Страх мгновенно отступил.
– Это я, – сознался Бирюков. – Пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало, придурок ты этакий.
– Зачем ты приперся в гостиницу? – Дашкевич усмехнулся. – Хочешь стянуть казенное полотенце?
– Ты сам говорил, что в твоем городе будет так, как ты хочешь, – сказал Бирюков. – Поэтому я перенес разговор на свою территорию. Я хочу получить деньги, которые заработал. И я их получу, чего бы это ни стоило. Даже если ты сдохнешь.
Дашкевич потянулся к тумбочке, налил из графина стакан воды. И осушил его в два глотка.
– Дурак, ты не знаешь, с кем связываешься, – сказал он. – Я не тот человек, с которым проходят такие номера. Но мы можем разойтись по-хорошему. Это твой последний шанс. Одумайся. Все останется между нами.
– По-хорошему это как? Без денег и с переломанными конечностями, как ты обещал?
– Вышло недоразумение. Все можно поправить.
– Именно это я и стараюсь сделать.
Бирюков посмотрел на песочного цвета пиджак, висящий на спинке стула. Дашкевич перехватил взгляд.
– У меня нет денег, – заявил он. – Ну, совсем немного наличных, кошке на корм. И три пластиковые карточки. Но договор с банками заключен так, что я имею право снимать в день по сотне баксов. Не больше. Моя жена старается поджать мои расходы. Все из-за казино. Меня там крупно обули и с тех пор…
– Заткнись. Уши вянут от твоего вранья. Ты знаешь, что убивают не за тридцать штук, за гораздо меньшие деньги. Поэтому делай, что я говорю. Скидывай свой халат, спускай трусы и голяком ложись на кровать. Кверху задом.
– Не понимаю…
– Я сделаю тебе укол снотворного. Или грохну. Одно из двух.
Дашкевич с пунцовым, налитым кровью лицом поднялся с кровати, развязал пояс халата, бросил его на кресло. Спустив трусы, лег на живот. Такого унижения он не испытывал, кажется, за всю свою жизнь.
* * *
Одной рукой Бирюков вытащил из сумки шприц на десять миллилитров, в который вошла лошадиная доза регипнола. Зубами снял с иглы пластмассовый колпачок. Ткнув дулом пистолета между лопаток Дашкевича, присел на край кровати. И воткнул иголку в мягкое место. Дашкевич пискнул. Бирюков сделал инъекцию, поднялся, положил использованный шприц в сумку. И устроился на широком подоконнике, поставив ноги на журнальный столик. Он ждал, когда начнет действовать ригипнол.
– Если я не проснусь после твоего снотворного… Если я врежу дуба, знай, что мои люди найдут тебя где угодно, – сказал Дашкевич. – Хоть в Китае. Наверняка обслуга видела, кто ко мне заходил. Тебя станут искать и менты, чтобы пришить мокрую статью. Но первыми найдут мои люди. Знай это…
– Не нагнетай напряженность, а то сам себя запугаешь и простыню испортишь, – ответил Бирюков. – Ты проснешься. Живой, здоровый, обедневший на тридцать штук и проценты, что накапали по долгу.
Дашкевич неподвижно лежал на кровати, сопел и скрипел зубами. Неожиданно приоткрыл глаза, посмотрел снизу вверх на Бирюкова.
– Наверное, картинки больше не рисуешь? – Дашкевич широко раскрыл пасть и зевнул. – Сменил специализацию? Теперь грабишь приезжих в гостиничных их номерах? Похвально. Большой прогресс для такого идиота. А я хотел подсказать тебе сюжет картины.
– Что-нибудь на производственную тему? Женщина с кувалдой на фоне дымящегося паровоза? Или работяга с лопатой перекидывает на транспортер твои минеральные удобрения?
– Никакой производственной тематики. Она не актуальна. Это трагическая, наполненная ужасом картина. Настоящий шедевр. Представь. Темное помещение, то ли сарай, то ли коровье стойло. К верхней балке привязана веревка, на которой болтается мужское тело, одетое в окровавленные лохмотья. Черты лица исказили муки невыносимого страдания, физическая боль. Физиономию словно свела судорога. Покойнику крепко досталось еще при жизни. Его пятки поджарены на костре, они превратились в черную обугленную корку, на обнаженной груди и шее отчетливо видны ножевые порезы и ссадины. По характерным пятнам крови на брюках, не трудно догадаться, что перед смертью бедняга был оскоплен. Если внимательно вглядеться, в убитом невольно узнаешь некоего Бирюкова. Я и название для картины придумал: «Дом повешенного».
– Оставь свой кладбищенский юмор. А картину с таким названием написали до меня. Художника звали Поль Сезанн.
– Не имеет значения. Дослушай. Полотно повесят на какой-нибудь галерее, где полно посетителей. Картина настолько страшная, что перед ней всегда будут толпиться народ, потому что людям больше всего на свете нравятся чужие страдания. А экскурсовод станет рассказывать, что это – последняя работа того самого Бирюкова. Живописец чудесным образом предчувствовал, предугадал во всех деталях собственную гибель, страшную в своей болезненности. И написал это замечательное полотно. Именно так и кончил свои дни самобытный художник, чей талант современники не оценили при жизни. Он был до полусмерти замучен неизвестными садистами. А потом Бирюкова просто вздернули на веревке. Как собаку. Нравится идея? Поспеши, и ты успеешь написать картину. Если ее выставят на продажу, я не пожалею денег.
– Лучше купи веревку себе.
– Да, не пожалею денег… И повешу картину в домашнем кабинете, чтобы в часы досуга предаваться приятным воспоминаниям. Вырученные от продажи полотна деньги пойдут на восстановление твоей оскверненной могилы. Которую, правда, снова не единожды осквернят.