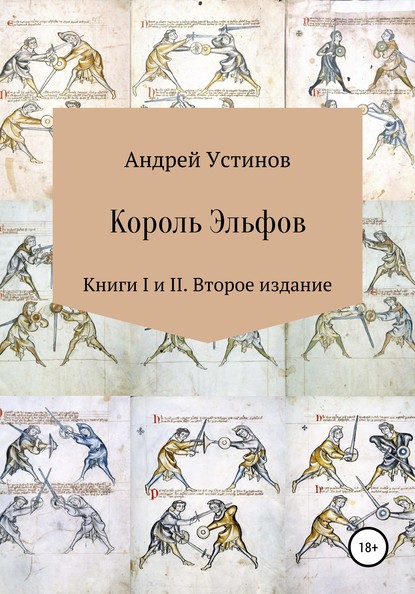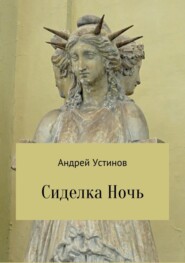По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А я-то? Глазелся на нее, ошеломленный покрывалом переливчатого света вокруг… и кто бы знал, что букашки-светляки могут вспыхивать, как человечьи цветы? Но сколь ни ласкала она ладошкой, нежа словом и делом, ни звала медуничным выдохом в парные ночные луга, а бренное тело мое ще млелось ленно на грубой лежанке, ще под тяжкими парами вязкого эля, и не мог я… А королева-дева – ах, позор мне извечный! – смешилась мягкоцветно, и губами ще нежничала, полная горячей отрады, и подбадривала, как сущего мальчика, лукаво снисходя к моей неможности. И я, ах, я почти утонул в энтих женских руках, в энтих розово-гречишных теперь (ах, все цвета радуги знала!) облаках волос, в энтих синевалых/зеленчивых глазах, то быстро взмаргивающих, будто речка на стремнине, то раскрывающихся недвижно, аже морская впадина, где жадные жгучие сирены-медузы ждут отчаявшихся моряков!
И так я духом востщился, тако жаждал воспрять с узкой полати своей, что затрясся в великом усилии – но не бренностью телесной! А вот будто духом и раздвоился нежданно, и нижней частью (сиречь, астросомой) позавидовал щедро, как земная плоть млеет под Эйлой, под ее цветочной силой, и вот-вот всколыхнется и отдастся уже безвольно ее ликующему естеству… А душа замешкалась: что же есть любовь? И сон – потерял будто вязкость и возвился прозрачными выплесками. Ибо возвился я над землянкой уже, бо эльфийский живой дым, и видел ночные костры по-над праздничной деревней, но и через травчатые земляные крыши вниз видел любящихся эльфов: да, будто гнездящихся светляков! Тех, кто, как Клевин и Ларитта-его-Радуга, едва чувствуют первейшее святое прикосновение, и кокон их розовый светел, как незаходная заря, и других, кто годы-годы уже в златоситцевом коконе любится, и третьих, кто столетия спит уже дружка-с-дружкой в темно-синем мерцающем покрывале! Ах, потому и зовут друг друга звездами! И ведал я все их имена и все их истории, но некогда-некогда было щас рассказничать, ибо ах как возбрезговалась чуять собственное тело в пьяной отрыжке и всежные пряные ароматы! Ибо Эйла, да, чудействовалась как живой цветок, и кокон ейный был ох-многоразный, будто все пряные травы этого мира состязались в росте! И любисток (ах, венчик зари!), и душица (украшение гор!), и желтый фенхель, и сиренный шалфей… ах, и все нацветались на мои телеса и обволакивали угарно, и душа испугалась столевластной сладкой неволи и искала совета!
И здесь… здесь точно был уже сон, а не быль. Думаю так, ибо больно уж переливчато (хотя и чуялось во сне пуще яви земной) закрутилось все в моей голове! И душа – бледная голубка! – кинулась сколесильно ввысь, задев бо со звоном Лунный щит (ах, что за музыка!) и замешкавшись на миг в белых полотняных облаках, Метаровых тайных покровах, но выпросталась и… и уже я был на былинной Горе Мира, и там рыщился по белооблачным палатам, по крашеным голубым горницам, заглядывал в каждый кут душевный, и вот-те нашел кормилицу! Ах, как и не пропадала: бродила по внутреннему садику с жестяным ливером (ну… эдакий arrosoir, чтобы воду из бочки набирать, чмокая ловким мехом) и все судачила судьбу: дескать, все мы сутью цветы, как вот ее любимый шпажник на круглой грядке. Конешенно, улыбалась через сон с верительной шепелинкой, нужно и заботу ея доверчливо принять… и плеснула на гаревую дорожку из волшебной лейки, и в минутной лужице увидел я, будто отраженное солнце, прекрасную деву на заре мира. И когда глаголю, что пуще яви земной мнилось мне сонное мое путешествие, то так и есть. Ибо даже ныне, на трезвую голову, – каждый кончик всякого золотого волоса сей девы мог бы на портрет ее поместить яркой радужной блесткой: этот веется легко, как тычиночная нить желтой астры, и самый кончик шелестится едва-едва, будто богатый будущей пыльцой; а тот свернулся колечком, будто свадебным, и жениха ждет; третий же прячется стыдливо среди сестер своих, точно спелый августовский колос, готовый к расплоду. А полное описание вышло бы в роман на 700 пергаментов! Но дева… будто встрепенулась моему присутствию в сей сказке и подсказала живо и ярко, даже раскрасневшись: Гаэль! Назови имя! И вот ах – ах, что за совет да на пьяную мою голову, и какое мя, и какое имя?
Но как-то (губошлеп!) восселился душою обратно в глупое тело – и опять почуял: жаркие губы, нежные белые пальчики, почти прозрачные, которые хотелось бы кажный-кажный – по целому дню лобызать и любоваться сквозь них на вечерний свет! И глаза ее, полные желанности, и почему зеленый мальчик, если уже норовит ложиться со мной так откровенно? И хотел (телом) призвать ее по имени, ожидая, что откликнется воскипевшей кровинкой, и будем мы в многотравных Элизейских лугах, а я – ах, по капле соберу нектар с ее душистого тела, и затем… затем сам изольюсь я любовью, белой и густой, как башенное облако, обнимающее зеленую вершину!
Но как-то воздуха сбылось мало в келье, после неба-то высокого, и за… зазадыхался. И пока ворочалось глупое тело мое, набираясь земного голоса, успел я на высшем языке души выкликнуть имя золотой небожительницы из волшебного сна… Ахх! Эйла-не-дева отшатнулась и ошлепнула по неподбритой щеке так, что сама ошершавилась, что звезды испужно задрожали на другой стороне неба! И черным тленом выщербилась изнанка ее кокона!
– Ахх, – прошипела безгласно, – ничтожество, слабак, смердолюд. И кое пророчество божется воскреснуть в сем бесполошном теле, и на что повелась, и на сильфиду вечную бывает проруха.
И пряможно – как поверить? и зачем спасала другой раз? – плюнула на плевры мне черным жабьим отвращением, бо болотным ядом прожгла, и истратилась в ночь, и только холодом потянуло через лопнувший бычий пузырь.
Или нет? Нет!!! Я будто живым криком зашелся, не желая терять нежную галлюцинацию… и она (ах, женщины таковы!) будто вернулась понасмешничать:
– Ах! – зазвенела нетрожным колокольчиковым смехом, почти стыдливым, но толь пронзительным, что и пузырь на продыхе лопнул звонко, и на околице где-то все колокольцы подхватили хохот (али то эльфовы хороводные гимны?). – Ах-ах, не мила! Ну так выкрещу глупое имя твое из глупого сердца!
И, правда-правда, будто ли выдернула из нагого своего тела светлый лепесток и бросила на перси мои, и канулась в темное небытие, и только лунный лучик рисовался холодом по моей груди.
Или-или-или… Бесконечный сон так и тщился в моей голове скриповатой детской каруселью (ах, где же так катался, на какой ярмарке?). И так звезды ще дрожали-ныли по всем семи-на-десяти небесам, что ещё-раз-ещё-раз-ещё все повторилось, будто бесконечным горным эхом. Или же, поверилось мне: как выбирал я в детстве фигурку на карусели, так и здесь возможно выбрать любо-любый из коловратных миров, дрожащих в воздухе серебристыми клубками (потяни толь!), и каждый сбылся бы правдивой историей? Кажут ли эльфы, так и бывает во дни равноденствия? И пожалел ее, так стыдливо влюбленную спасительницу мою! Сладкий самый исход выбрал, где будут еще часы наших встреч! Юнец и зеленушник!
И засмеялась Эйла-любава сладко-гортанно, так что дрожь-боль по вискам. И озарила комнату вспыхнувшей наготой. И самыми щепотками пальцев и нежными ноготками их, выкрашенными в живые цветы, коснулась немеющей щеки:
– Ах! – шепнула. – Ах, мой Гаэль! Ах, дурачок! И что ты веришь пустым богам и в пустые пророчества? Но вырасти, мой мальчик, и ще будет нам нежное время.
И ще лобызала горячливыми губами грудь, где под сердцем сплетение всех снов, и так крадко-крадко там заныла кожа, как будто слюнцою борщевика мазнула, и так возгорелся ожог, что не забудешь её никогда! И исчезла, завернувшись в цветастый кокон свой, завертевшись в белую бессоницу… ах, не к рыжему ли актеришке? ах, досада моя!.. и остался я глупцом в слепой темноте, пока возвращался взор, и только – правда! – веялось прохладцей от пузыря, видать, и правда лопнувшего.
8
Ах, господа на галерке! Не переживайте и не протирайте зря последние камзольные штаны! Вижу и сам, что бьет уже прямой луч через золотой витраж, возвещая обедню. Поспешу и я закончить первую часть моих приключений без излишних словесных выкрутасов.
Утро вышло пасмурное. Не на небосводе даже – там бледное светило пробивалось кой-как осквозь беспорядочные перистые пряди, а вот в голове. В голове былось как-то пустовато и как бы кисло пахло, ажно в капустовом амбаре, растратившем к весне все перепревшие запасы. И весна – нынче тоже гёзила (ах, gueuze, так эльфы вчера называли свой напиток): щипалась на языке вчерашним тригороклым элем, даже пожевать ревень не помогло. И Левит, который один из побратимов остался, тоже плотной бородой притерся, когда обнялись на прощание, и так дыхнул дрожжами, что хоть топись. И еще щека как-то жалелась-горевалась, где Эйла вечор касалась пальцецветиями, и грудь ой ныла… ах, и правда ли всё? Но дюже было тошно, как бывает от душных цветов, пускай и во сне, – и все нутро постыдной отрыжкой жглось, что забыл возлюбленную Летту во всем этом балагане и ночном бреду. Губошлеп и зеленушник! И завтрак не стал даже искать!
Только Алтей признал-порадовал, пока взнуздывал на пустой конюшне, – упряжь и седло почищены до свежего кожного запаха (воинского запаха!), но вокруг никого, даже некому merci буркнуть. Ох уж эти эльфы-бражники, были и сплыли! А не-не! Вон по холму развеялись пестрой цепочкой, во главе с неторопным Левитом: засевают вчерашний вытоптень (ну, где бревна-сидушки, и где сцена была)… ну надо же, радетели.
Так вот… Так вот Алтей покосился карим глазом (то ли ячмень на веке? надоть промыть у речки!), лизнул руку языком в поисках сахарного осколка, а нет сахара – так и еще раз, просто по дружбе, и полегче стало.
Путь запомнился отрывчато очень. Где у реки голая земля солнечной коркой пятилась – зело дрем-трава уж густо разрослась! Где с волками бился у перекатов (то ли место? и костревища во полевице не видать!) – там промчался днем, разбрызгиваясь лихо… подивился, остался ли кусок души моей у журчицы сей до смерти ночевать, на скаку махнул рукой по-над воздуху, но не почуял ничё. А Алтей вот пофыркал что-то!
Еще – подбил молодого русачка. О, сие смешно было: серые-то разговлялись на лужнине с диким щавелем, но пугливые! Так пришлось на вязень забраться и ждать бережно – так и высидел на теплой ветке, пока первый дурак не забылся и не высунулся ушами. Ну, другим наука! Еще – третий вечер спал-то под елью, завернувшись во плащец. Все ничего, да толь к заре муравьи наползли в штаны всей деревней (муравейник ли затеяли! ха!), замучился у ручья полощеваться…
Но так и предвещал неладное (бормоча всю дорогу проклятия и погоде, и природе), так и знал: Элизер зачем-то встречал у безлюдной сторожки на границе леса – в богатом уличном халате, никогда на нем не виданном, да в яркой скуфейке, и все понятно стало.
Спешился просто (а толку в показухе?) и выспросил устало, без сердечного приветствия:
– Что?
– Видишь ли, как сошлось, mon ami, – старец начал что-то вырещивать, прерываясь одышкой, но я сам прервал его почти презрительно… и слова будто держались в воздухе между нами, как редкие перистые облаци между небом и землей:
– С кем же ушла?
Хотя и тошно признавать, а чему-то все же волшебник научил. А именно: не толочь в ступе пустые слова, не лишать вкуса единственное сущее слово, хотя и горестное! И когда от мага самого, против учения и от виноватости его, множество слов разлетелось мотыльками – почти я потерялся разумом, отвлекаясь на клеверный запах с лугов, слишком щедро Ее напоминающий, на шебуршащихся в липовых пястях скворцов, нежных Ее поклонников, даже на вкус колосинки, что сорвал вот бездумно и нявжил в зубах, напомнившей терпким праздно-летним букетом вкус Ее губ… и так перескакивал, сам как скворец, от ощущения к ощущению, но везде Летта ускользала от меня. А все те словейства, что Елизер говорил и что я не слушал, – впитывал будто кто-то другой, кто быстро-кратко потом чевствовал (чевствовал! ха!) мою корзинку знаний сими горькими фруктами. Как там Элизер учительствовал? Мол, вот ты нежишься, как пчела на сладостном колоске, но шагнет мимо Глах или даже божий прихвостень его и выдернет (ах, как сам сейчас!) ту колосинку, и хорошо, коли просто отбросит тебя, не глядя, в дальний горький куст! Боги таковы!
– Видишь ли, mon ami, вышло пять неделиц как ты странствовал…
Ах, Глаховы идолы! И Эйла-потворница! И Элизер – ну что морочит?! Все же знал самовластный словоброд наперед и нарочно в эльфову мякину макнул, где часы как дни! Часы Любви! Три раза ха да с вороньим хрипом! И Летта моя, – конечно, заскучалась в девицах и поехала красоваться в город и попалась Раваху на глаз, и замутил ей черный маг голубые очи… ах, да зеленые ж! Зеленые!!! Вот и как мог сам все забыть? Ах, трепло-Гаэль! И опять горло горечью зажилось… И на той неделе свадьба… и Элизер, все дыша сладкой одышкой, пахнущей чайным квасом, протянул мне от сердца теплый еще медальон и насильно вложил в ладонь не пойми зачем:
– Ежели поймешь, mon ami, что добрел до края света… что не на топтанном распутье стоишь, а во болотине или поле ковыльном… где все вокруг мертвой дымкой кроется, то открой и зови старика!
Ах, что за вечная мура! Боги таковы! Да просто – променяла глупого дружка-парнишку на богача-магача, как всегда и желала! Ах, и дуралей же я впрямь был, что не отдался Эйле! Или и то сон дурацкий был?..
И только Алтея поцеловал в добрый карий глаз и шлепнул по задцу, чтобы к Белке-любовнице мчался красавец (ибо брыкался ужо и голосил по-своему), а Элизеру-магу – и почему же не воспротивился? кишка тонка против Раваха? – да плюнул под сапоги сафьяные (новые тож? хах!), да развернулся и пошагал в город пустым (хотя обида – тоже груз изрядный!), и амулет сей незалежный за первейным кустом раскрутил и в густой синими люпинами овраг выкинул золотою искрой.
Ах, не дуралей ли сам Елизер, чтобы о солдате беспокоиться! Ловкому парню и стотинки сами липнутся! Шелся вот мимость свойного лагеря воинского – и расхохотался гулко, опять вспомнив шпорные подвиги свои, ажно тяжелого черного ворона спугнул с окраинной осины. По старой памяти так и двинулся вдоль кривастого забора, аж насупленных часовых подовздорил (незнамые оба):
– Утречко! Как служба, злыдни?
– Дать твою-то тать…
– Да звиняйте, не бздитесь. Будто я говора не знаю! Вижу же, бо повязки наградные. Сам-то вожжевой, но с северного лагеря. Гэлька бо Франк у вас тут служит – повидать бы… То кузен мой триродный, мамка завещала приглядеть…
– Дать твою-то вожжу тать… Погоди-ка, Гелька Франт, ась? Погоди-ка, что-то вертится. То ли сгинул, то ли в розыске. А! Маврос что-то бачил, хрен капустный. А? Ну ржем так – бо в капусте всю ночь шельмовался. Сам-то что ты есть… серж бы тебе растолковал искальные грамоты, пожди чуток… Эй!
– Кажу же, сам служивый. Да чтоб я сержа вашего вертел! Но вам, братцы, мой комплимент!
Расхохотался и удрал побегайцем, знамо что пост не бросят (бо серж-то явится проверствовать вот-че-вот – кто же ныне серж, аже занятно!), и за углом забородки так и подобрался к кузне. Ну ничё не изменилось! Ах, криволапы! Те же дощи неприбитные, та же внутри-то кучица ветошного хлама, как нарочно для удобства оземь сподобиться, и даже подковы бо заботно для меня в две котомы сложены! О! Ах-ха-ха!
Разве что… разве что паучишка майский успел мой лаз переплесть и порвать пришлось. Так умный следопыт и углядел бы, откуда беда, да поди и не понадобится уж?
А на рынке все тот же скупщик – но что-то зарябившийся дряблой ряхой (ах, позже понялось!) – но тожно дурдей пытался нахитрить. Вот же глашник, думал вовек юнцом кичливым останусь! Как подковья тусклые в Раваховых укладках увидал-то, так и раскраснелся всей ряпушкой и пошел фальшиво напевать на вы:
– Ахх… ма-астер Гаэль! Прямо воскрешение!.. Али липового чайку с анисовым дыхом? Золотой, золотой товар! По весу ли возьму? Ах, сладимся! Но извольте подождать, немать при се мерила, сей миг сгоняю! А покасть вот и стоо-опочку…
– Постой-ка, хрен рябой! – а да вот так с горьким хрипом!!! Во глуби души (где любовь-то закопал) я сам ажно удивился, что зло так выскочили слова, не в шуточку, а бутче бритвецой по выпученному глазу, и мечец-молодей так рябому в глотку сам и подоткнулся и на солнце заблестел! И весело добавил с подковыркою: – За зеленца ли держишь, шкура ты анисовая! Щас те сам за штанцы вон на входе перед зеваками подвешу-отымаю до крайнего лева, да еще и пазуху твою гнойную воскрою на крайняк, вдруг ли сожрал пару злотенцев со страху!
И вытряс свое, и еще довеском – ну, за грубость начальную! – забрал из дуралейского кармана затейный авентийский пропуск. Медная будто монета, но с цеховым торгашным символом. Будто-то от купцов, от заморейской вареолы давеча померших – о, вот как дела! покаль у Элизера учействовался-то по волшебным сладким садам! – от купчиков пропуска годовалые остались, то вот не изволит ли мессир Гаэль задешево? Ах-ха! Вот слава дезертира! Мессир Гаэль всегдась-карась изволит по дружбе бескорыстной принять сей дар, а ежели твоя рожна, оспой опечатанная, затеет кому-то вякаться, так ведь мож и за прошлое всю подноготную испытать, сколько герцогских подковок распродал, по игле за каждую! Ха!
И шел-шатался через рынок к торговой гавани – думал домой двигать. Ну, к дядьке в Коголан, а что же думать-то долго? Не худшая судьба! И пока жевал курью кулебяку на ходу (да с жареной печеночкой!)… слышал со всех прилавков (аах! вот жирец потек по щетине!) говорок народный про давешний щербатый мор. Мол, опять Метара-хранительница разгневалась на чтой-то и порвала золотое ожерелье свое и кинула на обидчиков! – и герцога-то Раваха не помиловало, всю семью его выкосило подчистую с двумя сынами-молодцами (ах, орлы! отлазились голубейкам под юбки-то!), да ужель убоялся? Бородой-то и поклялся вечно жить и соблазнил уже молодую знахарку из Фанума, и старику-лекарю, что вместо отца ей быш, велел на бедняков лечений не тратить, и ох это не к добру и т.д. и т.п. Сколеразно слышал чуши, но правды не искал: ясенно бысть, что свадьба через неделицу, и важные приготовления кажутся уже на лобной площади, и даже герцог выписал ямным должникам вольную по мольбинке бедной той невесты. И заместо вонной той ямы – подумать ли? – будет гостям ларек с фруктами-угощениями!
Да и – ну что? И катиться ей смоквой надлопленной (ха, словечко!) да под горку! Кто же падежное-то подберет! А вот… Ах, я всерьез задумался, к Катинке мож? Тоскует поди…
Но тут – сердце, холодющее всю дорогу от эльфов, эдак вдруг кровью горящей дрыгнулось, забилось-таки, и звон в ушах, и закачался посреди лотошного проулка. И все глупости, что тогда переживал-стихотворствовал, все как мошкара загуделись одновременно, ах и ах. Белизна чела? А? А ну и Катинка рябая, и что я буду делать? Ах ты…
Ах, тьфу! Жизнь была как погода: то лужа, то песочек сухой… Так и зашагал, ярче пыля сапогами, искать-таки купца в дальний Коголан, но на площади (где и впрямь к свадебке колотили/правили что-то, ажно дюжинцу разбойничих голов вывесили на пики мухам на потеху, – а вот не должников ли тех ямных? ха!) увидал же ту, помните ль почтенно, Эл-и-Пирси вывеску с золочеными буквами в фигуристых платьях? И вот где ах-магия! Буквы – ничуть за эти дни (дни ли?) не поржавели и не поседели, и лицами не порябились, но – странно! оченно! – будто поменяли позы, будто продолжали свой вековечный реверанс.
И тако захотелся в сей город белокаменный, где толь красивные недоступные дамы прозябают на балконах-вывесках, что шибко развернулся марш-кругом в центре деревянного пятачка площади и давай обратно по авентийскому тракту ко всем собачьим выселкам. Ах! Элизер (будь он рядом) спросил бы обязательно, отвлекшись от пыльных талмудов и болезненно прищурясь: и куда же, jeune ami, ведет эта дорога и эта книга жизни? Но я все еще злился на него… Но ответил бы, пожав плечами (нарочно раздражая): знаю ли и сам, но это только начало!
И ни о чем не жалел, ни о чем не думал, только дожевывал как-то прибранное на рынке яркое яблоко… да не волшебное ли, откуда им по весне? И будто нежный смех Эйлы услышался в воздухе (и ще будет нам нежное время!), и потому остановился нарочно там, где белые щербленые ступени, где милая девчонка когда-то кормила меня, дурака, сладкой мякотью, и дожевал за обе щеки (вкусное! что же пропадать!) и метошно запустил огрызком в ворота храма Феи.