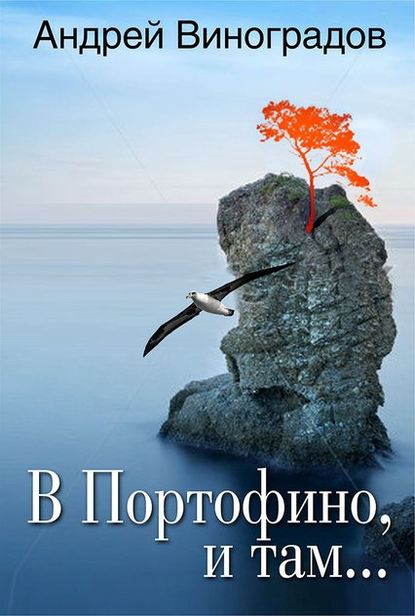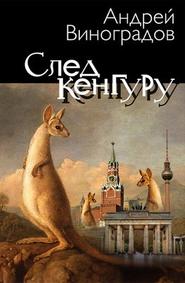По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В Портофино, и там…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На соседних судах, измочаленных ночным безобразием, учиненным природой-матушкой, появляются признаки первого шевеления – робкого, с недоверием к солнцу, ярко-голубому небу и послушной неверным ногам палубе. Только теперь до меня доходит, что звуки, спугнувшие утопление второго башмака оказались фальшивыми, то есть «нечеловеческими». Засада!
Через час – полтора начнутся мужские хождения по причалу, от лодки к лодке. Прольется «интерматерок» в адрес древних строителей подводной ступени, каждый хозяин на своем личном безмене взвесит травмы и увечья, нанесенные стихией любимой игрушке – на этом причале цена «скорлупок» колеблется от полумиллиона до трех, – а потом пойдет сравнивать свои беды с соседскими. Сильно пострадавшие будут пожимать плечами: «Ничего особенного, не впервой, мелочи. Вот, помню, прошлым летом в проливе Бонифация… Там потрепало так потрепало… Работы на час, не больше, завтра же и починимся.» Пережившие ночь с небольшими потерями, или вовсе без таковых, будут изображать сочувственное внимание, вежливо соглашаться, думая при этом: «Слава тебе Господи, не оставил своими заботами… А ты, страдалец… Иди уже, впаривай другому кому про час работы… Где ты чиниться-то собрался?! Здесь тебе еще больше все поломают. Не повезло. Вобщем, поздравляю!» Даже не так, а слитно, в одно слово: «Неповезлопоздравляю!», без «вобщем». Не исключаю, что есть на этот счет – я о злорадстве – какое-то хитрое суеверие, настоятельно рекомендующее именно такую форму сочувствия, чтобы самого беды стороной обходили, хотя самого меня учили, что всё наоборот. Мне, надо сказать, ни один из вариантов не помогает.
Будет много историй про град величиной с перепелиные яйца. Не те, что у перепелов-самцов, а те, что их самки несут для наших салатов. Про волны до пятнадцатого этажа, «а мы – офигеть! – на шестнадцатом, только поэтому и пережили…» Женщины в это время расстелят полотенца и растянутся на открытых солнцу носовых частях миниатюрных «титаников», закроют глаза и – Ди Каприо… вот он, рядом… Наигравшись в Кейт Винслет, они примутся скрытно оценивать друг друга сквозь темные очки, развивая позднее косоглазие, и поражаться. Кто-то наверняка подумает о соседке: «И эта корова полночи ланью летала по палубе… Подумать только, что угроза утраты имущества с людьми делает?! Минут лет двадцать, минимум, в одночасье… Шторм… С мужчинами надо знакомиться в шторм! Отныне только в шторм!» При этом, все они, без исключения, невзирая на сроки годности и нарушенные условия хранения, будут «топлесс».
Скукотища невероятная.
ПРОИЗНОШЕНИЕ ВАЖНО
Еще полчаса. Похоже, мне одиноко. Одиночество – это не чувство, не состояние, это – окаменелость. Мой дядька, очень известный в свое время летчик-испытатель, обожал, когда журналисты задавали ему самый умный из приготовленных вопросов:
«Вы самолеты испытываете?»
«Их тоже, – отвечал дядька, – но чаще испытываю чувство одиночества…»
Хороший был человек, очень хороший. Все, к кому он ходил в гости, а таких только по Москве набиралось домов двадцать, его обожали: никогда не опыздывал, всегда приносил с собой завернутые в газету кожаные тапочки без задников, выпивал мало, как и ел, зато щедро нахваливал кулинарные способности хозяйки, а хозяина – за прозорливость в выборе спутницы жизни. Главное, никогда не задерживался после чая больше чем на пятнадцать минут и запросто уводил за собой всех гостей – ну форменный крысолов, только без дудочки. Кто-то «покупался» на предложение «растрястись чутка», кому-то нравилось, что его подвезут… Последним, в итоге, за доверчивость приходилось расплачиваться беготней по холоду, если зимой, в поисках такси, хотя можено было заказать машину из квартиры. Но! Эта печальная перспектива становилась очевидной только на улице, когда возвращаться к хозяевам в момент их счастливого изнеможения – «Ушли… Все ушли… Боже, это не может быть правдой…» – было менее интеллигентно, чем злиться на весь белый свет и мерзнуть, поскрипывая зубами: «Сука»; никто не слышит. Голову дал бы на отсечение, что несколько раз видел одни и те же лица, хотя ни в сценарий ни в режиссуру дядюшкиного поведения не было внесено ровным счетом никаких изменений. Сейчас бы сказали – «зазывалы проплаченные». Что было на самом деле – не знаю, в самом деле странно: однообразный розыгрыш с однообразным финалом. Но тогда, юнцу, мне было весело.
Самое неизгладимое впечатление на гостей, еще не до конца ощутивших себя обманутыми, производил водитель дядюшки – высокий, широкоплечий, затянутый в портупеи офицер, заученно, без малейшего намека на улыбку, объявлявший подлетевшей к персональному лимузину стае:
– Неположено. Только родственники и самые близкие друзья.
Водитель был из Западной Сибири, деревенский, из Колчаковки – так в народе в двадцатые годы прозвали три дюжины переживших все революции домов вдоль насмерть разбитой дороги из одного никуда в другое. Году в восемнадцатом там квартировали белые, потом вдруг собрались и ушли, испарились – без суеты, без единого выстрела, вроде бы даже без повода – красные так и не объявились. Их, по правде сказать, никто и не ждал. А через неделю вышли к людям и объявили себя новой властью братья Пивоваровы, вроде как деревенские партизаны. Из подпола вышли, все дни «оккупации» пересидели у местного попа в подполе, и еще неделю прихватили, пока наливка не закончилась и от пяти окороков одни веревки остались, хоть и с запахом. Сказали: «Для верности выжидали».
Во власти новой, собственно, никто не нуждался, как и в любой другой: «Про Ленина не читали, о царе только слышали, а Господь, хоть сам все видит, на глаза опять же не попадается». Каторжанская, словом, кровь, одна власть – воля. Словом, пока устанавливали новую власть, свергали, опять устанавливали, пока Пивоваровы кумекали, чего бы у кого конфисковать сподручнее и половчее, да конфисковывали – много времени прошло. Без малого девять месяцев минуло, как белые ушли. В это самое время местная повитуха нарасхват оказалась, а с ней и власть новая наконец-то к делу сгодилась.
Пивоваровы, обрадовавшись поводу – полдеревни рожениц! – выгнали из дому попа, тем более, что у того на всех сосчитанных сынов и дочерей божьих, что на подходе, крестильных крестиков не хватало, буквально трети, и он, робкая душа, запил горькую от нерешительности – кого обделять; та еще работа. Освободившееся строение осветили «Революционным красным ходом», воспользовавшись батюшкиными свечами, вываляв их в табаке, чтобы запах о церкви не напоминал, газетным портретом Ленина, присовокупив, по настоянию селян, «на случай какой», Манифест об отречении Государя Императора Николая II. Тот самый, что возлагал ответственность за Отечество на Временное правительство. Манифест для порядка наклеили на доску, с другой стороны которой уже взирал на торжество своих идей вождь мирового пролетариата. Доска оказалась с темным сучком, который просвечивал аккурат через левый глаз Ильича. Демон, да и только.
Бывшую собственность служителя культа назвали красным роддомом «Лютая смерть врагам мировой революции имени Ленина». Оттуда незамужние селянки без особого шума и пьяных мужицких гульбищ «по поводу», однако и без бабского вытья с причитаниями, то есть вполне достойно, разнесли по домам розовощеких крепышей, по большей части мужского пола. Имена им, понятное дело, давали разные, а фамилию одну на всех – Колчаковские. Нашли-таки Пивоваровы, чем девок ущемить. И то хорошо, что обошлось «малой кровью», без рабочекрестьянского фанатизма. Кстати, несознательные односельчане поговаривали, что некоторые пацаны из «белого помета» якобы сильно лицом доморощенных революционеров напоминают, да и по срокам как-то не очень складывалось, если не действовало на селе подполье белое месяц- другой. Впрочем, что с них взять – деревня… Грамоте не обучены, арифметике тоже. Небылицы все это, как есть – небылицы.
Лет двадцать спустя один из Колчаковских добрался до самой Москвы, место получил «в органах» и вплоть до кончины своей, по выслуге лет, не ленился подсказывать новым друзьям ударять в его фамилии на третий слог, а кто гнушался подсказками – того поправляли; разные были методы способствовать лучшему запоминанию, большинству хватало одного их перечисления. Его единственный отпрыск уже, само собой, иначе чем Колчаковским себя не именовал, а поскольку пошел по стопам отца – никто вопросов не задавал, а кто имел такое право – знали ответы.
Манерами молодой человек был не в родителя – сдержанный, спокойный. Говорил без спешки, со значением, много читал, правда в основном газеты. Во взгляде, вместо вечной отцовской подозрительности, с прищуром, временами проскальзывало высокомерие, тоже, кстати сказать, с прищуром. Статью тоже пошел в отца, но без мужицкой медвежистости и кажущейся неуклюжести. В плечах такой же, но талия узкая, складный, подогнанный каждой частью. Начальство таких любит, а жены начальников – и того больше. Проще сказать, если в папаше и чувствовалась «пивоваровщина», то сын все досужии домыслы разом перечеркнул – эта ветвь Колчаковских точно не была на совести братьев.
Итак, после короткого и, поверьте на слово очевидцу, впечатляющего выхода младшего Колчаковского, дядюшка виновато разводил руками – «Увы, правила устанавливаю не я, вам ли не знать, сами видите…» – и мы вдвоем загружались в теплый салон с темно-вишневыми бархатными чехлами.
Интересно, зачем моему заслуженному – перезаслуженному родственнику все это было нужно? Неужели тоску таким образом разгонял? Нет, не с тоски. Со скуки, наверное. Дурачатся именно что со скуки, у тоски шутки злее.
В авто главный пассажир непременно комадовал: «Поехали!». При этом, его губы никак не желали разжиматься – обижались на хозяина за никчемную болтовню и склеились между собой. Не так сильно, конечно, чтобы раздувался дядька до размеров воздушного шара… И тут я на нем – юный, легкий, красивый – за восемьдесят дней вокруг света… Увы, вообще не раздувался, но команда «поехали» вырвалась наружу как из сифона, быстро теряющего давление. Выходило «Пха…ли», последний слог я скорее додумывал, нежели слышал; даже не междометие, просто звук.
Для Колчаковского команда «Пха…ли» превратилась в ритуал, без которого начало движения было бы так же невозможно, как если бы сам он забыл завести двигатель. Интересно, рассказал ли он кому-нибудь об этом, и как сложились отношения Колчаковского с новым пассажиром, когда дядюшку поперли отовсюду, сохранив лишь звания и регалии, как гирлянды на срубленной елке, и заперли на госдаче доживать и крапать мемуары в блокноты с пронумерованными страницами в компании с одноруким философом – банщиком, Савельичем. Старик нарочито напирал на мягкий знак в отчестве. У меня на этот счет была своя теория: Савелич – это для обыкновенных банщик, а если банщик-философ, то непременно с мягким знаком. Надо сказать, большинство банщиков, а их я перевидал в жизни множество, могли претендовать на такой же вербальный знак отличия, что есть – то есть. Вобщем, Савельич. Как сейчас слышу его голос:
«Без мужества, сынок, не бывает славы, а без трусости – не понять, где мужество, а где нет его. Слава, она тоже не от характера зависит, а от судьбы оказаться там, где хочешь – не хочешь, а приходится что-нибудь проявлять: силу там, или слабость, мужество или трусость… Там так не получается, как вы нынче живете: проходил мимо, и прошел… Просто живете, по-глупому, и других также судите. Бывает, уж поверь старому солдату, что если есть в тебе хоть кроха мужества – трусить надо и бежать без оглядки, а если не повезет – тут и будет тебе вечная слава…»
Он зажимает в коленях очередную бутылку «Жигулевского» и окостеневшим ногтем большого пальца подбивает пробку снизу вверх. Она послушно, со щелчком, срывается с места, летит вверх. Мечтает, наверное, дотянуть до Жигулевских гор – не выходит, для такого перелета ногтя мало. Я послушно подбираю пробку из травы и опускаю в банку из под халвы, где ее принимают или не принимают в компанию такие же горе- путешественницы.
«Вот так, сынок… А я с детства плохо бегаю. Ходить могу сутками напролет, а вот бегаю плохо. Что-то со ступнями не так, от недоедания, наверное, когда малой был, от недоедания много разных хворей… Теперь вот – герой…», – Савельич кивает в сторону пустого левого рукава, словно не имеет к нему прямого отношения. А может быть этот кивок всего-лишь вопрос-приглашение, потому что в следующий момент Савельич протягивает мне опробованное «Жигулевское»…
Не думаю, что порядком поднадоевшая, «фирменная» шутка с предложением подкинуть гостей до дома могла сыграть каую-то роль в незавидной судьбе моего дядьки, как бы и кто бы на него ни обижался, настолько больших начальников я в его окружении не помню. Кстати, те могли и сами таким же образом забавляться – у всех был персональный транспорт. Скорее уж внимательный Колчаковский порадел старшему товарищу. Решил, видимо, что пора менять пассажира на другого – посолиднее, достало его все-таки это неизменное «Пха…ли!», и «заПха…ли» дядьку на вечную дачу. Однако, не факт.
Как бы ни было, жаль дядьку. Еще жаль, что вчерашняя дебоширка пропала куда-то. С чего я решил, что она обязательно должна быть из Портафино? Вполне могла заехать-забрести случайно… Чертовски жаль, что нельзя вернуться назад – во вчера… Удивительно, что почти такими же словами заканчивалось последняя весточка, полученная мною от дядьки.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ТРЕБУЕТСЯ МОЗГ
Вчера… Вчера примерно в это же время, а может быть и того раньше – второй день просыпаюсь ни свет ни заря – я увидел на берегу девушку. Точнее не на берегу, а на причале Умберто Первого. Так правильно, и звучит, наверняка обратили внимание, очень достойно, весомо, хотя, поверьте опытному человеку – берег берегом. Не самое, на мой взгляд, заслуживающее упоминания место, если не принимать во внимание, что именно там пришвартована лодка вашего покорного слуги. И совсем уже не вяжется с ним имя короля – щедрого, храброго, целеустремленного, правившего Италией в конце девятнадцатого века. Кстати, это на него – на Умберто Первого – в Неаполе бросился с кухонным ножем повар – анархист. Да вот незадача – попал в премьер-министра. Понимаю, стрелял бы. Ну промахнулся, с кем не бывает. А тут – с ножем. И попал в другого… Перепутал… И что делало с людьми отсутствие цифровых камер? Великая жизнь была спасена неспешностью поступи технического прогресса. А может быть, все дело в Италии? Каждый день, проверяя в ресторанах сдачу, нахожу, что эту страну населяют великие путаники.
Начатое в Неаполе, все-таки довели до конца, но только через двадцать два года, в одна тысяча девятисотом. Где – не скажу, не помню. Да и неважно это, раз получилось… На сей раз авторы покушения не полагались ни на поваров, ни на кухонную утварь: выстрелили из пистолета три раза в упор – и всё. Попали в того, в кого просили попасть. Кто стрелял? Не каждый экскурсовод сходу ответит. А вот неудачника повара Джаванно Пассаннанте итальянцы не забывают. Даже мозг его сберегли, плавает себе до сих пор в формалине в какой-то посудине. Говорят, недавно мэрия его маленькой родины вытребовала эту посудину из римского Музея криминалистики. Отцы города убеждены, что экпонат привлечет к себе толпы туристов. Совершенно с ними согласен: чего не хватает туристам, так это мозгов.
ПЕЙЗАНКА
Девушку нельзя было не заметить. Она вышагивала, как автомат, раз за разом повторяя строго заведенный порядок: пять шагов в одну сторону, разворот на месте, еще пять в другую, разворот. Все это босиком. Я считал, а она ходила. Молча, сосредоточено, туда-сюда. Если бы не наушник с микрофоном, при всей своей миниатюрности неказисто громоздкий для изящного ушка, можно было бы предположить, что девушка про себя репетирует гневную речь, сулящую собеседнику трудно, в мучениях провести скупые минуты оставшейся жизни. Отчего-то вспомнилось давнишнее, из обрушенной жизни, партсобрание и симпатичная, глазастенькая молоденькая дура, настучавшая на мужа, будто он обозвал тещу толстожопой тварью при том, что та – ветеран труда, орденоносец и одна, без мужа, подняла четверых детей. И юбки, между прочим, покупает сорок четвертого размера, это – к жопе… В такт резкой отповеди «хамству в быту» она молотила маленьким кулачком в раскрытую ладонь, а когда закончила, то костяшки на ее правой руке горели ярче чем щеки.
«Комиссарское племя, – пришло мне тогда на ум чужое определение. Чужое и чуждое по настроению, по интонации. – Странно, что расстрелять мужика не требует. Главное, чтобы завтра руки на себя бы не наложила, узнав, что по ее дури мужу трехмесячную стажировку в Британском суде зарубили…»
С учетом опыта прожитых лет, думаю, хуже всех на следующий день пришлось ее маме.
Объект моего нынешнего наблюдения попеременно то хмурил брови, то прищуривался недобро, потом глаза неожиданно широко распахивались, а губы, чуть полноватые для тонко вылепленного лица, наоборот – плотно сжимались. Трудно было представить себе больше внешних несоответствий лекалу, по которому родной советкий кинематограф выпилил в моем мозгу образ женщины – комиссара, однако лишенная предрассудков услужливая фантазия легко упаковала стройную фигурку в хром, подпоясала широким ремнем, перетянула грудь портупеей. Стильно: кожан вышел от Армани, сапоги о Эрме. Что поделаешь: какое время – такие и комиссары. А вот косынка оказалась совершенно лишней, неуместной, перебор. Я ее стер мгновенно, еще завязаться не успела, и упрекнул фантазию во вредительстве – такие раскошные волосы нельзя прятать, грех. Тем более, что в душу мою ниоткуда проникла уверенность, что темно каштановый с медным отливом – родной цвет. Спросите – а разница есть? Не отвечу. Одно знаю: на подушке они бы выглядели бесподобно, просто потрясно, нет у меня других слов. Образов, увы, тоже – годы берут свое и требуют экономить время.
«Что это на уме у нас, смелый парень? – постукивает в моей голове науке неведомое передающее устройство, я его называю «дятлинг». – Последняя твоя пассия, из сверстниц, если бы разметала по подушке прическу, могла бы и не собрать…»
Я представил себе, как улыбалась бы девушка, слушая мои бессвязные бредни, и подумал, что хотел бы эту улыбку видеть. А еще – «Ну же, господа подержанные и траченые молью эротоманы!» – здорово было бы провести ладонью по этим волосам, разбросанным по подушке, потом поднести к лицу…
«Какое там «комиссарское племя»?! Пейзанка…»
Девушка остановилась напротив моей лодки, лицо повернуто в мою сторону, и я, грешным делом, подумал, что сейчас она улыбнется, а мне на старости лет не останется ничего иного, как уверовать в Господа, что, признаюсь, было бы крайне обременительно для нас обоих… Дальше и в самом деле произошла удивительная метаморфоза. Увы, не та, о которой я грезил. Девушка выхватила из кармана широкой цветастой юбки телефон – по-видимому «хэндс фри» забастовал или просто решил уйти в сторону от накаляющеяся обстановки – и неожиданно сдержанным тоном, но явно на пределе, внятно выговорила в микрофон, поднесенный к самым губам: «Убирайся из моей жизни, Бобан! Только попробуй отключиться…»
«Во как?! – ахнул я про себя. – Вот это по-нашему, по-русски!»
У девушки был легкий, едва заметный акцент, скорее всего польский, а может быть так «мягко» по-русски говорят где-нибудь на Львовщине или в Закарпатье – я, правда, не замечал, но это еще ничего не значит. Кстати сказать, ни по лицу, ни по одежде не подумал бы, что соотечественница… И эти разноцветные ногти на правой руке… Почему для среднего пальца она выбрала желтый? По-моему, не очень политкорректно.
В этот момент наши взгляды пересеклись.
– Вас это тоже касается! – получил я в свой адрес все в той же тональности.
«И неплохой английский, явно не школьный, легко перешла, без запинки…»
Также естественно девушка вернулась к родной речи:
– Гондон мальтийский!
Было ясно, что плотина не просто дала течь – рухнула, и притом сразу, до основания.
Я все еще по инерции улыбался – с возрастом все реакции замедляются, – когда телефон с обидно невыразительным для производителя стуком врезался в борт моей яхты и завершил свои земные часы серией внятных всплесков.
«Соединяем людей… ценой собственного разъединения!»
А может быть и не «Нокия». Честно говоря, не успел рассмотреть.