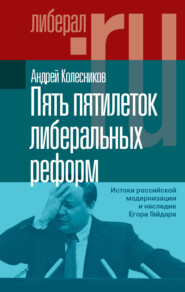По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Попасть в переплёт. Избранные места из домашней библиотеки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Закладка из кусочка бумажки во втором томе поэтической антологии Средних веков – Жан де Мен, “Пигмалион”, вторая часть “Романа о Розе”, XIII век. На обложке – миниатюра из “Романа о Лисе” (а вот рядом на полке “Роман о Лисе” в переводе со старофранцузского Анатолия Наймана, а вот “История французского языка” профессора Сергиевского, подписано к печати 14 октября 1947 года, само магическое очарование – с картами-вкладками, например, “Франция при Франциске I”). Соединенные GF – издательство Garnier-Flammarion – такой же значок детства, как овал издательства Gallimard с надписью “Le Livre de Poche” – покетбук (не существовавшее в те годы понятие – “всех этих слов на русском нет”). Или перо, вложенное в раскрытую книгу, – знак серии классической литературы в “карманном” формате.
А рядом – уродские книжечки в мягких обложках на серой бумаге – советские издания литературы на языке от разных издательств, включая “Просвещение”. Поприличнее, в скучных твердых переплетах, – от издательства “Прогресс”. Даже и читать не хочется, хотя шрифт гораздо более удобный, чем в покетах.
И там же, на полках, – мамины учебники французского, по которым выучились несколько поколений учеников спецшкол, начиная с конца 1950-х и по 1970-е годы (для второго и третьего классов, с Пифом на обложке). Они связали множество людей разных возрастов, в том числе тех, кому сейчас сильно за семьдесят. Покойный ныне коллега, исламовед Алексей Малашенко учился по этим учебникам во второй спецшколе, где работала моя мама. Голос же его мамы – Галины Новожиловой – сопровождал жизнь нескольких поколений детей: от закадровой озвучки знаменитых мультфильмов (“Двенадцать месяцев”, “Дюймовочка”) до популярнейших радиопрограмм, главной из которых была воскресная “С добрым утром!”. Голос был такой оптимистический, что хотелось жить. Так перекрещиваются линии жизни – той, что провалилась в тартарары. Так хочется ее удержать и зафиксировать, хотя бы с помощью этих букв.
“Будьте нормальными, будьте обычными, будьте как все”, – наставляла мать своих сыновей, одним из которых был будущий нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук. Он приписывал это влиянию суфийской морали. Какой морали – из осторожности, воспитанной историей страны и семьи, – придерживалась моя мама, не говоря прямо ровно эти слова, но подразумевая их в некоторых разговорах и в оценках нашего с братом поведения? Это была советская мораль? Советская еврейская? Самооборона в отсутствие собаки иронической породы “еврейская сторожевая”. Скорее, страховка, которая могла бы помочь прожить жизнь не счастливо, но спокойно и мирно. Без тюрьмы, военной мобилизации и социальной маргинализации – значит, уже счастливо.
Удивительно (или уже неудивительно), однако это родительское ощущение вернулось сейчас и ко мне.
Библиотека. Самый главный мир. Каждый шкаф – повод для отдельных поисков и отдельного времяпрепровождения.
Эпоха, когда книга была в буквальном смысле лучшим подарком, самым естественным. Что от товарищей по совместному отдыху в санатории (“Лже-Нерон” Фейхтвангера, подаренный папе в день рождения: “…На память от товарищей по отдыху в Гагре. 25 апреля 1958 г.” – отпуск и путевку, причем без семьи, могли дать только в несезон); что в воспитательных целях – в соответствии с детскими интересами (огромный том Алпатова по истории искусств, подаренный тетей Геней брату Сереже, начинающему художнику); что от друга – надпись ближайшего товарища папы (подарок на день двадцатидвухлетия) на толстом томе, как тогда любили издавать – с двухколонной версткой, “Двух капитанов” Каверина: “Дорогому другу! Володька! Здесь хорошо описана дружба. Но наша с тобой не слабее”. Как показали последующие десятилетия, это было чистой правдой…
И обязательно – обязательно! – с дарственной надписью и фиксацией даты. Или как минимум – месяцем. И с иронией: “Внукоплемяшу Сереже от теткобабушки Гени. Москва, апрель 1964 года” – надпись на форзаце “Знаменитых римлян”, пересказа Плутарха для подростков. “Моему любимому Андрюшатису от «тети» Гени, октябрь 1978” – это уже мне, “Кому на Руси жить хорошо” Верхне-Волжского Ярославского издательства со стилизованными иллюстрациями. “Тетя” в кавычках, поскольку по строгому ранжиру – не тетя, а сестра бабушки, а в домашнем обиходе – таки да. Теткобабушка, изливавшая на внукоплемянников тонны любви, не доставшейся ее собственным умершим детям. Книга, остановленная во времени не только выходными данными – сдано в набор, подписано в печать, – но и надписью, сделанной человеческой рукой.
Библиотека – это дом. Книги – хранители дома. Даже если их не читают. Они – как предметы интерьера, знакомые с детства, как чашка, к которой привык за десятилетия, – рождают радость узнавания дома. И горечь – если эта чашка утрачена, как утрачиваются частица дома или чувство дома. Именно поэтому те, у кого были дом и предметы, его формировавшие, в том числе книги, даже в те периоды истории, когда нужно было бежать от опасности, от смерти, продолжали цепляться за чашечки, ложечки и книги. В них – жизнь. Вне их – смерть.
В смерти тоже должен быть какой-то смысл. И передача библиотеки – как хранилища памяти – по наследству имеет смысл продолжения жизни семьи. Корешки собраний сочинений – это охрана, оборона от враждебного и безжалостного мира. Стоят рядами темно-зеленые тома Диккенса и Чехова, зеленые Гоголь и Тургенев, темно-красные Драйзер и Фейхтвангер, темно-голубой Жюль Верн и оранжевый Майн Рид и – держат оборону. Жизнь продолжается.
Отношение к вещи как к чему-то долгосрочному и глубокоуважаемому, имеющему не только стоимость, но и цену, как к одушевленной сущности – исчезло. Проще выкинуть, чем починить.
У книг выросла стоимость, но упала цена.
Утрата трепетного отношения к вещи сказалась и на фигуре продавца и ремонтника. Они потеряли лицо и самость. Если не считать крохотных мастерских металлоремонта, последних образцов жанра.
Ян Янович, сухой и строгий, быстрый и самоуважительно вежливый продавец отдела иностранной литературы на втором этаже “Академкниги” на Пушкинской (в угловом доме напротив “Известий”), всегда, как бы и куда покупатель не спешил, упаковывал книгу в охряного цвета упаковочную бумагу. Покупка книги превращалась в действо, если не священнодействие. В оду к радости, в знак уважения к книге, пусть и потрепанному покетбуку (тем выше его ценность, он весь в шрамах от чтения людьми). Когда книга извлекалась дома из оберточной бумаги, это могло быть приравнено почти к рождению человека. В этом акте, в этом усилии было много торжественного. Чего и добивался продавец, известный тонкому слою читающей Москвы.
Хорошо помню магазин пишущих машинок на Пушкинской улице, ныне Большой Дмитровке, но услугами его не пользовался – моя портативная “Оливетти”, прототип ноутбука, появилась, когда магазин то ли исчезал, то ли уже исчез. Свои статьи для партийной прессы, для “Агитатора” или “Политического самообразования”, папа от руки писал по выходным за моим полированным письменным столом, пока я был занят другими сюжетами детской жизни. Потом, на работе, вероятно, отдавал на машинку. Точно так же работала мама над своими учебниками французского и словарями. Но там, в магазине пишущих машинок, был свой Ян Янович по имени Илья Самойлович. По характеристике Асара Эппеля, “элегантный, как эсквайр”, он “стоял в магазине на Пушкинской, заранее подавшись в сторону пока еще ехавшего в метро клиента”.
Примерно класса со второго я писал книги. Точнее, изготавливал, макетировал их: текст писался печатными буквами, иллюстрации имели “кэпшен” – подписи. Правда, картинки, отражая замысел, опережали текст: я сначала разбрасывал их по “макету” книги на много страниц вперед, а потом писал. Некоторые иллюстрации так и не удавалось догнать текстом – произведения оставались недописанными.
Как правило, они составлялись по мотивам имевшихся в библиотеке, но еще не прочитанных книг. Один из романов начинался с набело переписанных нескольких первых абзацев “Похищенного” Стивенсона. Дальше становилось скучно переписывать, и я начинал сочинять сам. В более зрелом писательском возрасте, классе в четвертом, пошли повести из текущей мальчишеской жизни с фиксацией реальных предметов и обстоятельств, например с описанием окружавшей казенную дачу растительности.
“Юго-Западная” – метро из детства, куда приезжал регулярно в гости к лучшему другу в передовую двадцатидвухэтажку, на двадцать второй же этаж. Потом приезжал в гости и в юности. Выходил из вагона в тот же интерьер, с тем же освещением. Тогда казалось, что все это – подготовка к жизни, она впереди. Сейчас, выходя на “Юго-Западной” в том же интерьере, в том же освещении, подумал, что жизнь уже была и уже прошла. То, что считалось подготовкой, и оказалось жизнью, причем самой активной ее фазой. “И, стоя под аптечной коброй, / Взглянуть на ликованье зла / Без зла, не потому что добрый, / А потому что жизнь прошла”[1 - Стихи Сергея Гандлевского.].
А книги на полках в этой двадцатидвухэтажке в библиотеке покойного отца моего друга – всё те же. Я радуюсь им, как старым (и постаревшим, отчасти – покинутым) друзьям.
История – в том числе личная – сохранилась в этих книгах, в их названиях, которые в детстве, конечно, мало о чем говорили. И коллекция бутылок отца друга – полвека назад все эти волшебные этикетки казались посланцами из другого мира. Особенно мне нравилась бутылка из-под виски Cutty Sark – исключительно потому, что в детстве я бредил парусными кораблями, а знаменитый чайный клипер был изображен на этикетке.
Не было ничего важнее морских приключений. Радио пело детским голоском: “След мой волною смоет, а я на берег с утра приду опять, море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать”. Литая формула детских устремлений, если не считать индейцев – но как раз до них-то и нужно было доплыть на корабле. Или таким же манером, как Тур Хейердал. А потому главный “учебник” мореплавателя – С. Сахарнов, “По морям вокруг земли”, издательство “Детская литература”, сдан в набор еще в 1975-м, подписан в печать в начале 1976-го. Первоклассная бумага, предметный указатель, потрясающие иллюстрации, на форзацах – морская азбука, флаги Международного свода сигналов, суперобложка – корабль на старой карте. Тираж по тем временам небольшой – 50 тысяч. Дома этой книги почему-то не было, несколько раз я брал ее в библиотеке. А спустя сорок лет с жадным восторгом узнавания и возможности обладания купил в букинистическом.
Дополнительным пособием служил первый том двенадцатитомной разноцветной “Детской энциклопедии” (издавалась с 1971-го по 1977-й) – там было много важных сведений о географических открытиях и целый раздел про динозавров с картами и картинками. Из-за чего этот том рвали из рук друзья и знакомые – тогда с динозаврами, в отличие от сегодняшнего дня, была напряженка.
Карты вообще были важным подспорьем, они обязательно висели рядом с письменным столом, как и книга, доставшаяся от брата, – “Повесть о карте” Аскольда Шейкина 1957 года издания. Это тоже поколенческое и типичное для интеллигентных семей тех лет занятие – разглядывать географические карты, что выяснилось однажды из разговора с моей подругой Ирой Ясиной.
Роль же “задачника” играла книга географических загадок Михаила Ильина “Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара Загадкина” с рисунками Анатолия Иткина. Это издание 1976 года, а было еще несколько предшествующих, с конца 1950-х, и радиопередача. Вероятно, отчасти по образцу книг о “Клубе знаменитых капитанов” и соответствующих радиопрограмм. Роскошный сборник радиопьес Владимира Крепса и Климентия Минца (издательство “Искусство”, “На волне знаменитых капитанов”) родители и бабушка – с дарственной надписью почерком отца – подарили мне в мае 1975-го в связи с посвящением в пионеры.
И как тут не задуматься о поступлении в мореходное училище. Но для этого надо было хорошо знать математику, а я ее знал не просто плохо… И потом, я все-таки решил в то время, что стану не мореходом, а хоккеистом, возможно, с последующим превращением в этнографа. Но ни Тура Хейердала, ни Владислава Третьяка, ни Хельмута Балдериса, ни Клода Леви-Стросса из меня не вышло.
Свойства перемен, отражающиеся в спорте. Хоккей изменился до неузнаваемости. Теннис – тоже. Футбол – нет. Только жесткости и прессинга стало больше. И он утратил красоту.
Еще один образец книжного долголетия – повесть Сергея Розанова, первого мужа Натальи Сац, “Приключения Травки”. Травка – прозвище пятилетнего мальчика. Вполне очевидно, что прототип – Адриан, сын Розанова и Сац, впоследствии журналист и писатель. Книга – своего рода путеводитель по практическому выживанию в Москве и Подмосковье для детей дошкольного возраста, написанный внятным языком, безукоризненно точно адаптированным для малышей – проверено на нескольких поколениях.
Первое издание – 1928 год. Москва менялась – корректировалось и содержание книги. В сильно зачитанном виде, почему-то с криво отрезанным ножницами титулом и нацарапанным на обложке бабушкиным почерком словом “Колесников” (чтобы не увели знакомые детсадовцы?), есть она и в нашей домашней библиотеке. Это первое посмертное издание, оно сдано в набор в начале 1957 года, за три дня до смерти автора. На сайтах букинистов можно найти преимущественно именно его, поскольку оно было самым массовым – триста тысяч экземпляров. С чудесными и такими же внятными, как текст, иллюстрациями художника Исаака Гринштейна, известного классическим оформлением “Сына полка” Катаева, книга выходила с 1949 года. Переиздавалась в 1951-м, в 1954-м, тиражи были сравнительно небольшие.
В издании 1957 года есть все обстоятельства 1950-х: переезд семьи в новые дома в Петровском парке, оплата проезда в троллейбусе и метро, осмотр станции “Площадь Революции”, любование двумя домами-великанами – МИДом, у которого стоят ЗИМы, ЗИСы и “Москвичи”, а также МГУ. “Ты будешь в нем учиться, когда окончишь школу. Конечно, если окончишь с пятерками или по крайней мере с четверками. Ты будешь жить там высоко, где-нибудь в комнате на 32 этаже”. Вполне себе траектория формирования нового советского среднего класса. Правда, непонятно, зачем жить в общаге, если есть прекрасная родительская квартира в Петровском парке, да еще рядом со стадионом “Динамо”.
Многое теперь вызывает боль: от музыки до игры света и тени, будящей воспоминания. Но боль уже не отчаянная, а усталая, ведь вернуть ничего нельзя. Жизнь как накопление боли, перемешанной с виной, когда память перевешивает те сюжеты, которые еще осталось прожить до естественного конца.
“Что делать? Надо жить: у нас дети”, – всякий раз говорит мой друг, заканчивая телефонный разговор. Или: “Мы-то пожили, а детей жалко”. Или: “Хорошо, что мама (папа, брат, сестра, дедушка, бабушка) не дожили до этого кошмара”.
Мама и не дожила. Хотя ее организм спортсменки-альпинистки был спроектирован для долгой жизни – если бы не рак. Ей не было и десяти лет, когда арестовали ее отца – она стала дочерью “врага народа”. Спустя двадцать два года после ее смерти сына назвали “иностранным агентом”. Порочный круг прикладного сталинизма замкнулся. Выскочить из него не удалось ни нашей семье, ни стране.
В очереди на оплату ухода за захоронением. Женщина спрашивает, кто последний. И ставит обычную хозяйственную сумку на пол. Раздается гулкий звук – урна коснулась кафельного пола. Все, что осталось от человека. Банальность бесконечного, обыденность метафизического.
Жизнь как способ не вляпаться в дерьмо. Окрестности превратились в собачью площадку, нужно очень внимательно следить за тем, куда ставишь ногу. Но и оказавшись в волшебных местах в предгорьях Алтая, оцепенело слушая тишину и давая передохнуть взгляду, я едва не вляпался в коровье дерьмо. Здесь тоже нужно ходить, внимательно следя за тем, куда ставишь ногу. И потому становится невозможным слушать тишину и давать отдых взгляду. Вот так и в жизни: все усилия уходят на то, чтобы не подорваться на этом минном поле.
Запах старой книги столь же многослоен, как аромат осенней листвы. Или бренди на хересе, или односолодового виски. Да и сама домашняя библиотека окружает как лес. Внутри этого леса, под корой книг-деревьев, идет своя интимная жизнь, прячутся невидимые секреты: записочки, рисунки, легкие листики троллейбусных билетов, спрессованные под спудом времени квитанции на давно исчезнувшие предметы одежды, уже отстиранные в химчистке и ушедшие в отстиранном виде в небытие.
Книги действительно похожи на деревья: они рассыхаются, медленно умирают и распадаются.
Запах книг – как запах леса. Он обрушивается на тебя, когда открываешь створки книжного шкафа. Особенно если на полках хранятся собрания сочинений, изданные в 1950-е, 1960-е, 1970-е. Драйзер, Фейхтвангер, Цвейг, Голсуорси, Гоголь, Тургенев, Хемингуэй, Гофман, Бальзак, Чехов, Роллан…
Такой же бриз книжного запаха встречал нас, когда Екатерина Юрьевна Гениева, управляющая моделью рая на земле, наследница Маргариты Рудомино, водила меня по Библиотеке иностранной литературы. Прикосновение к корешкам книг, как к стволам деревьев. Мы вместе радовались этим прикосновениям, обмениваясь взглядами, понимая друг друга. Понял бы нас и Карл Маркс, который называл своим любимым занятием действие, которое называется “рыться в книгах”. На стене моего кабинета висит небольшая репродукция: оксфордская профессура роется в книгах в темно-коричневых рембрандтовских сумерках книжного магазина Blackwell. Все они умерли; магазин остался, как и колледжи Оксфорда.
В Иностранку я приходил студентом младших курсов в годы, когда ею руководила Людмила Гвишиани-Косыгина. Я брал книги в абонементе. Однажды некий слобожанин заглянул ко мне через плечо – в метро, естественно, – его глаза пробежали по страницам “Les Mots” Сартра, и он недоверчиво спросил: “Ты тут что-нибудь понимаешь?” Вот так подлинно бесклассовая слобода смотрит со смесью презрения, недоверия и чувства неполноценности на Европу с ее невнятными буковками, которые лучше бы отменить совсем. А Иностранка при Гениевой распахнула все окна русской культуры и впустила воздух Запада – из этой атмосферной смеси рождалась свобода, гибельная для русских барака, казармы, портянки, окопа, нар, подворотни, неосвещенного, пропитанного запахом гнили и кошек подъезда. Русская культура заканчивалась, когда в Библиотеке иностранной литературы стали бороться с иностранными же культурными центрами внутри нее и выдавливать Гениеву, которую Людмила Улицкая назвала подлинным министром культуры России, с ее поста. И Екатерине Юрьевне пришлось бороться на два фронта: с властью, двигавшейся к опричнине, одичанию и крику “Гойда!”, и с онкологией. Они ее победили. Но ведь запах книг выветрить невозможно. Библиотеки – даже если ими руководят чиновники-приспособленцы – они ведь как противоракетный “Железный купол”: зло разбивается о них, не проникает внутрь.
Книга – как лес. Есть такая на книжной полке. Большеформатная. Зеленая. Одна из любимейших в детстве. Через нее прошли я, брат, два моих сына и дочка. Виталий Бианки, “Лесная газета”, подписана в печать в мае 1955-го, Ленинградское отделение Детгиза на набережной Кутузова. Самое интересное – разгадывать викторины. Бианки опередил свое время и превратил познание леса в квест уже тогда. Чтение следов – самое увлекательное. Кто здесь ходил, что делал? Почему кора ободрана именно на такой высоте, а не на другой? Какая птица что клюет и почему? Кто тут крутился на заснеженной крыше? Где тут лисий след, а где собачий? Какой-то свой мир, очень далекий от людской суеты и подлости. Хотя в разделе “Охота” всё весьма безжалостно. Потрясающая работа – целая галерея – художника-иллюстратора Валентина Курдова, учившегося у Петрова-Водкина и Малевича. Можно обзавидоваться: какое профессиональное счастье делать такой фолиант, сложнейший макет… И как важен формат: поздние малоформатные переиздания выглядят убого. И чем позднее, тем хуже.
Вот в эту книгу можно зарыться лицом и дышать ею, как лесом. Это запах дома. “И всё до боли мне знакомо. / Я дома, Господи, я дома. / Хоть и тогда хватало бед, / Но вечерами тихий свет / Мерцал под желтым абажуром”[2 - Лариса Миллер. “О, Создатель, дай ответ”.].
Память – это визуальные сполохи, выскакивающие эпизоды, связь между которыми утеряна. Но не всегда и не навсегда. Декабрь 1983-го, густо-синий вечер за окном кухни. В парадоксальной цветовой гармонии с ним темно-синий том – первый – из нового трехтомника Андрея Вознесенского. (“Три синих” – назовет он их в одном из стихотворений.) Потом пауза в памяти. Но следующий эпизод указывает на то, что тем же вечером я ехал в Лаврушинский переулок, чтобы найти квартиру Бориса Пастернака, кумира и идола. Вероятно, под влиянием эссе Вознесенского “Мне четырнадцать лет” в том же синем томе. Вошел в главный подъезд со стороны переулка, напротив Третьяковки, поднялся на какой-то этаж, потоптался у какой-то квартиры, которую по каким-то признакам счел пастернаковской. И ушел. Ведь заходить-то было некуда. Пастернака не было вот уже как двадцать три года. “И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул”[3 - Иосиф Бродский. “Я обнял эти плечи и взглянул…”.].
Содержание книги иной раз откладывается в памяти не так основательно, как обстоятельства или, точнее, осязательно-обонятельный антураж чтения. “Весь с головою в чтение уйдя, не слышал я дождя”[4 - Райнер Мария Рильке в переводе Бориса Пастернака.]. Сколько книг я прочитал, пока кормил из бутылочек молочной смесью своих младенцев, поминутно засыпавших и безмерно растягивавших процесс потребления продукта: за кормлением старшего сына в поздние восьмидесятые я освоил “Иудейскую войну” Фейхтвангера (седьмой том собрания сочинений; сдан в набор за неделю до моего рождения, в июле 1965-го). Кроме первой фразы “Шесть мостов вели через Тибр” и спорадических попыток разбудить похлопыванием по щечке ребенка, не помню ничего. И свет лампы, под которой мы сидели. Та же позиция, конец первого десятилетия XXI века, я кормлю засыпающую на руках дочь-младенца, предмет чтения – только что вышедшая “Божественная страсть” Аксенова. За окном – позднеосенняя чернота Филевского парка, единственный огонек у поворота рукава Москвы-реки – спасательная станция недалеко от причала “Кунцево”. Одна из лучших работ в мире у людей. И этот огонек – один из якорей, который удерживает на родине.
Первые Мандельштам, Цветаева, Ахматова: папиросная бумага, разноцветные самопальные переплеты – бордовый, зеленый, синий – прямо как тома детской энциклопедии 1970-х. Это уже балкон казенной квартиры в домике в “цековском” дачном поселке. Скрип алюминиевого раскладного кресла по балконной плитке. Прогулка с невестой лучшего друга в окрестных полях, по которым, если долго идти, можно добрести и до дачи Пастернака (где она потом и будет некоторое время работать по музейной части). Прочитав мои первые литературные опыты с изобилием метафор и прочих видов тропа, невеста моего друга раздраженно рецензирует: “В конце концов, всё можно сравнить со всем”. Кажется, от нее и были эти томики стихов – на несколько дней. Сама она пишет стихи в стиле обэриутов. Потом мой друг вернется из армии; первый постармейский контакт жениха и невесты, при том что они вообще-то соседи по “Юго-Западной”, мы устроим у входа в главное здание МГУ. Ошеломленные встречей спустя два года, они будут стоять у входа в сталинскую громаду. Я и сам с некоторым недоверием буду смотреть на Мишкину бритую голову и раздавшуюся вширь от дурного питания морду (потом это всё будет быстро исправлено – и голова, и морда). А в тот вечер мы пойдем на джазовый концерт здесь же, в ДК МГУ…
А в детстве книги – это ведь сначала иллюстрации. Потому я и собрал небольшую коллекцию старых детских книг, книжечек и журналов с иллюстрациями лучших художников. И даже скупил все находившиеся в букинистической продаже старые номера “Веселых картинок” – теперь их и не найти. Странные пристрастия: в раннем детстве я очень любил книгу Сергея Баруздина “Страна, где мы живем” со стилистически узнаваемыми иллюстрациями Федора Лемкуля. По ним потом мой младший сын (почему-то именно он из всех детей) в буквальном смысле познавал мир и совсем крошечным обожал пролистывать эту книгу. Подписана в печать (тогда писали “Подписана к печати”) в мае 1967-го – значит, я пристрастился к ней примерно в том же возрасте, что и сын Вася, года в два.
Мне страшно нравилась книга Евгения Мара – купленная еще брату, издана в 1960-м – “Чудеса из дерева”. Вот по ней видно, каким фантастическим книжным иллюстратором был Илья Кабаков. Интересно, что уже тогда я ухитрялся интересоваться выходными данными. И навсегда запомнил, что Детгиз – это Малый Черкасский, дом 1. Теперь там роскошная гостиница, окруженная шикарными ресторанами… А в те времена Детгиз был окружен разными продовольственными магазинами на улице 25 Октября, включая магазинчик, поштучно торговавший конфетами, – перекресток назывался Бермудский треугольник; один из ближайших ресторанов – “Берлин”, он же “Савой”, известный своими вычурными интерьерами и фонтаном, откуда до девяти вечера вылавливали для посетителей рыбу, а после девяти – уже самих посетителей. В кулинарии/буфете брали берлинское печенье в лимонной глазури.
А вот еще чудесный детский научпоп из времен детства моего брата – книга Георгия Елизаветина “Всему голова” (о хлебе) с иллюстрациями Виктора Дувидова. Ни у Дувидова, ни у еще одного классика, Виталия Горяева, не было своих детей, но сколько радости они принесли не своим детям, причем нескольким поколениям.
Книгу Бориса Бродского “Вслед за героями книг” с иллюстрациями Виктора Щапова я никогда не читал, зато часто разглядывал картинки. Издательство – “Детский мир”, потом его переименовали в “Малыш”.
Целая цивилизация пошла ко дну. А книги остались…
Пушкин начинался с Владимира Конашевича, с его иллюстраций к сказкам издания 1968 года (подписано к печати в январе 1966-го). Представления о разных оттенках синего – оттуда, из “картинок” к “Сказке о рыбаке и рыбке”.
А рядом – уродские книжечки в мягких обложках на серой бумаге – советские издания литературы на языке от разных издательств, включая “Просвещение”. Поприличнее, в скучных твердых переплетах, – от издательства “Прогресс”. Даже и читать не хочется, хотя шрифт гораздо более удобный, чем в покетах.
И там же, на полках, – мамины учебники французского, по которым выучились несколько поколений учеников спецшкол, начиная с конца 1950-х и по 1970-е годы (для второго и третьего классов, с Пифом на обложке). Они связали множество людей разных возрастов, в том числе тех, кому сейчас сильно за семьдесят. Покойный ныне коллега, исламовед Алексей Малашенко учился по этим учебникам во второй спецшколе, где работала моя мама. Голос же его мамы – Галины Новожиловой – сопровождал жизнь нескольких поколений детей: от закадровой озвучки знаменитых мультфильмов (“Двенадцать месяцев”, “Дюймовочка”) до популярнейших радиопрограмм, главной из которых была воскресная “С добрым утром!”. Голос был такой оптимистический, что хотелось жить. Так перекрещиваются линии жизни – той, что провалилась в тартарары. Так хочется ее удержать и зафиксировать, хотя бы с помощью этих букв.
“Будьте нормальными, будьте обычными, будьте как все”, – наставляла мать своих сыновей, одним из которых был будущий нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук. Он приписывал это влиянию суфийской морали. Какой морали – из осторожности, воспитанной историей страны и семьи, – придерживалась моя мама, не говоря прямо ровно эти слова, но подразумевая их в некоторых разговорах и в оценках нашего с братом поведения? Это была советская мораль? Советская еврейская? Самооборона в отсутствие собаки иронической породы “еврейская сторожевая”. Скорее, страховка, которая могла бы помочь прожить жизнь не счастливо, но спокойно и мирно. Без тюрьмы, военной мобилизации и социальной маргинализации – значит, уже счастливо.
Удивительно (или уже неудивительно), однако это родительское ощущение вернулось сейчас и ко мне.
Библиотека. Самый главный мир. Каждый шкаф – повод для отдельных поисков и отдельного времяпрепровождения.
Эпоха, когда книга была в буквальном смысле лучшим подарком, самым естественным. Что от товарищей по совместному отдыху в санатории (“Лже-Нерон” Фейхтвангера, подаренный папе в день рождения: “…На память от товарищей по отдыху в Гагре. 25 апреля 1958 г.” – отпуск и путевку, причем без семьи, могли дать только в несезон); что в воспитательных целях – в соответствии с детскими интересами (огромный том Алпатова по истории искусств, подаренный тетей Геней брату Сереже, начинающему художнику); что от друга – надпись ближайшего товарища папы (подарок на день двадцатидвухлетия) на толстом томе, как тогда любили издавать – с двухколонной версткой, “Двух капитанов” Каверина: “Дорогому другу! Володька! Здесь хорошо описана дружба. Но наша с тобой не слабее”. Как показали последующие десятилетия, это было чистой правдой…
И обязательно – обязательно! – с дарственной надписью и фиксацией даты. Или как минимум – месяцем. И с иронией: “Внукоплемяшу Сереже от теткобабушки Гени. Москва, апрель 1964 года” – надпись на форзаце “Знаменитых римлян”, пересказа Плутарха для подростков. “Моему любимому Андрюшатису от «тети» Гени, октябрь 1978” – это уже мне, “Кому на Руси жить хорошо” Верхне-Волжского Ярославского издательства со стилизованными иллюстрациями. “Тетя” в кавычках, поскольку по строгому ранжиру – не тетя, а сестра бабушки, а в домашнем обиходе – таки да. Теткобабушка, изливавшая на внукоплемянников тонны любви, не доставшейся ее собственным умершим детям. Книга, остановленная во времени не только выходными данными – сдано в набор, подписано в печать, – но и надписью, сделанной человеческой рукой.
Библиотека – это дом. Книги – хранители дома. Даже если их не читают. Они – как предметы интерьера, знакомые с детства, как чашка, к которой привык за десятилетия, – рождают радость узнавания дома. И горечь – если эта чашка утрачена, как утрачиваются частица дома или чувство дома. Именно поэтому те, у кого были дом и предметы, его формировавшие, в том числе книги, даже в те периоды истории, когда нужно было бежать от опасности, от смерти, продолжали цепляться за чашечки, ложечки и книги. В них – жизнь. Вне их – смерть.
В смерти тоже должен быть какой-то смысл. И передача библиотеки – как хранилища памяти – по наследству имеет смысл продолжения жизни семьи. Корешки собраний сочинений – это охрана, оборона от враждебного и безжалостного мира. Стоят рядами темно-зеленые тома Диккенса и Чехова, зеленые Гоголь и Тургенев, темно-красные Драйзер и Фейхтвангер, темно-голубой Жюль Верн и оранжевый Майн Рид и – держат оборону. Жизнь продолжается.
Отношение к вещи как к чему-то долгосрочному и глубокоуважаемому, имеющему не только стоимость, но и цену, как к одушевленной сущности – исчезло. Проще выкинуть, чем починить.
У книг выросла стоимость, но упала цена.
Утрата трепетного отношения к вещи сказалась и на фигуре продавца и ремонтника. Они потеряли лицо и самость. Если не считать крохотных мастерских металлоремонта, последних образцов жанра.
Ян Янович, сухой и строгий, быстрый и самоуважительно вежливый продавец отдела иностранной литературы на втором этаже “Академкниги” на Пушкинской (в угловом доме напротив “Известий”), всегда, как бы и куда покупатель не спешил, упаковывал книгу в охряного цвета упаковочную бумагу. Покупка книги превращалась в действо, если не священнодействие. В оду к радости, в знак уважения к книге, пусть и потрепанному покетбуку (тем выше его ценность, он весь в шрамах от чтения людьми). Когда книга извлекалась дома из оберточной бумаги, это могло быть приравнено почти к рождению человека. В этом акте, в этом усилии было много торжественного. Чего и добивался продавец, известный тонкому слою читающей Москвы.
Хорошо помню магазин пишущих машинок на Пушкинской улице, ныне Большой Дмитровке, но услугами его не пользовался – моя портативная “Оливетти”, прототип ноутбука, появилась, когда магазин то ли исчезал, то ли уже исчез. Свои статьи для партийной прессы, для “Агитатора” или “Политического самообразования”, папа от руки писал по выходным за моим полированным письменным столом, пока я был занят другими сюжетами детской жизни. Потом, на работе, вероятно, отдавал на машинку. Точно так же работала мама над своими учебниками французского и словарями. Но там, в магазине пишущих машинок, был свой Ян Янович по имени Илья Самойлович. По характеристике Асара Эппеля, “элегантный, как эсквайр”, он “стоял в магазине на Пушкинской, заранее подавшись в сторону пока еще ехавшего в метро клиента”.
Примерно класса со второго я писал книги. Точнее, изготавливал, макетировал их: текст писался печатными буквами, иллюстрации имели “кэпшен” – подписи. Правда, картинки, отражая замысел, опережали текст: я сначала разбрасывал их по “макету” книги на много страниц вперед, а потом писал. Некоторые иллюстрации так и не удавалось догнать текстом – произведения оставались недописанными.
Как правило, они составлялись по мотивам имевшихся в библиотеке, но еще не прочитанных книг. Один из романов начинался с набело переписанных нескольких первых абзацев “Похищенного” Стивенсона. Дальше становилось скучно переписывать, и я начинал сочинять сам. В более зрелом писательском возрасте, классе в четвертом, пошли повести из текущей мальчишеской жизни с фиксацией реальных предметов и обстоятельств, например с описанием окружавшей казенную дачу растительности.
“Юго-Западная” – метро из детства, куда приезжал регулярно в гости к лучшему другу в передовую двадцатидвухэтажку, на двадцать второй же этаж. Потом приезжал в гости и в юности. Выходил из вагона в тот же интерьер, с тем же освещением. Тогда казалось, что все это – подготовка к жизни, она впереди. Сейчас, выходя на “Юго-Западной” в том же интерьере, в том же освещении, подумал, что жизнь уже была и уже прошла. То, что считалось подготовкой, и оказалось жизнью, причем самой активной ее фазой. “И, стоя под аптечной коброй, / Взглянуть на ликованье зла / Без зла, не потому что добрый, / А потому что жизнь прошла”[1 - Стихи Сергея Гандлевского.].
А книги на полках в этой двадцатидвухэтажке в библиотеке покойного отца моего друга – всё те же. Я радуюсь им, как старым (и постаревшим, отчасти – покинутым) друзьям.
История – в том числе личная – сохранилась в этих книгах, в их названиях, которые в детстве, конечно, мало о чем говорили. И коллекция бутылок отца друга – полвека назад все эти волшебные этикетки казались посланцами из другого мира. Особенно мне нравилась бутылка из-под виски Cutty Sark – исключительно потому, что в детстве я бредил парусными кораблями, а знаменитый чайный клипер был изображен на этикетке.
Не было ничего важнее морских приключений. Радио пело детским голоском: “След мой волною смоет, а я на берег с утра приду опять, море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать”. Литая формула детских устремлений, если не считать индейцев – но как раз до них-то и нужно было доплыть на корабле. Или таким же манером, как Тур Хейердал. А потому главный “учебник” мореплавателя – С. Сахарнов, “По морям вокруг земли”, издательство “Детская литература”, сдан в набор еще в 1975-м, подписан в печать в начале 1976-го. Первоклассная бумага, предметный указатель, потрясающие иллюстрации, на форзацах – морская азбука, флаги Международного свода сигналов, суперобложка – корабль на старой карте. Тираж по тем временам небольшой – 50 тысяч. Дома этой книги почему-то не было, несколько раз я брал ее в библиотеке. А спустя сорок лет с жадным восторгом узнавания и возможности обладания купил в букинистическом.
Дополнительным пособием служил первый том двенадцатитомной разноцветной “Детской энциклопедии” (издавалась с 1971-го по 1977-й) – там было много важных сведений о географических открытиях и целый раздел про динозавров с картами и картинками. Из-за чего этот том рвали из рук друзья и знакомые – тогда с динозаврами, в отличие от сегодняшнего дня, была напряженка.
Карты вообще были важным подспорьем, они обязательно висели рядом с письменным столом, как и книга, доставшаяся от брата, – “Повесть о карте” Аскольда Шейкина 1957 года издания. Это тоже поколенческое и типичное для интеллигентных семей тех лет занятие – разглядывать географические карты, что выяснилось однажды из разговора с моей подругой Ирой Ясиной.
Роль же “задачника” играла книга географических загадок Михаила Ильина “Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара Загадкина” с рисунками Анатолия Иткина. Это издание 1976 года, а было еще несколько предшествующих, с конца 1950-х, и радиопередача. Вероятно, отчасти по образцу книг о “Клубе знаменитых капитанов” и соответствующих радиопрограмм. Роскошный сборник радиопьес Владимира Крепса и Климентия Минца (издательство “Искусство”, “На волне знаменитых капитанов”) родители и бабушка – с дарственной надписью почерком отца – подарили мне в мае 1975-го в связи с посвящением в пионеры.
И как тут не задуматься о поступлении в мореходное училище. Но для этого надо было хорошо знать математику, а я ее знал не просто плохо… И потом, я все-таки решил в то время, что стану не мореходом, а хоккеистом, возможно, с последующим превращением в этнографа. Но ни Тура Хейердала, ни Владислава Третьяка, ни Хельмута Балдериса, ни Клода Леви-Стросса из меня не вышло.
Свойства перемен, отражающиеся в спорте. Хоккей изменился до неузнаваемости. Теннис – тоже. Футбол – нет. Только жесткости и прессинга стало больше. И он утратил красоту.
Еще один образец книжного долголетия – повесть Сергея Розанова, первого мужа Натальи Сац, “Приключения Травки”. Травка – прозвище пятилетнего мальчика. Вполне очевидно, что прототип – Адриан, сын Розанова и Сац, впоследствии журналист и писатель. Книга – своего рода путеводитель по практическому выживанию в Москве и Подмосковье для детей дошкольного возраста, написанный внятным языком, безукоризненно точно адаптированным для малышей – проверено на нескольких поколениях.
Первое издание – 1928 год. Москва менялась – корректировалось и содержание книги. В сильно зачитанном виде, почему-то с криво отрезанным ножницами титулом и нацарапанным на обложке бабушкиным почерком словом “Колесников” (чтобы не увели знакомые детсадовцы?), есть она и в нашей домашней библиотеке. Это первое посмертное издание, оно сдано в набор в начале 1957 года, за три дня до смерти автора. На сайтах букинистов можно найти преимущественно именно его, поскольку оно было самым массовым – триста тысяч экземпляров. С чудесными и такими же внятными, как текст, иллюстрациями художника Исаака Гринштейна, известного классическим оформлением “Сына полка” Катаева, книга выходила с 1949 года. Переиздавалась в 1951-м, в 1954-м, тиражи были сравнительно небольшие.
В издании 1957 года есть все обстоятельства 1950-х: переезд семьи в новые дома в Петровском парке, оплата проезда в троллейбусе и метро, осмотр станции “Площадь Революции”, любование двумя домами-великанами – МИДом, у которого стоят ЗИМы, ЗИСы и “Москвичи”, а также МГУ. “Ты будешь в нем учиться, когда окончишь школу. Конечно, если окончишь с пятерками или по крайней мере с четверками. Ты будешь жить там высоко, где-нибудь в комнате на 32 этаже”. Вполне себе траектория формирования нового советского среднего класса. Правда, непонятно, зачем жить в общаге, если есть прекрасная родительская квартира в Петровском парке, да еще рядом со стадионом “Динамо”.
Многое теперь вызывает боль: от музыки до игры света и тени, будящей воспоминания. Но боль уже не отчаянная, а усталая, ведь вернуть ничего нельзя. Жизнь как накопление боли, перемешанной с виной, когда память перевешивает те сюжеты, которые еще осталось прожить до естественного конца.
“Что делать? Надо жить: у нас дети”, – всякий раз говорит мой друг, заканчивая телефонный разговор. Или: “Мы-то пожили, а детей жалко”. Или: “Хорошо, что мама (папа, брат, сестра, дедушка, бабушка) не дожили до этого кошмара”.
Мама и не дожила. Хотя ее организм спортсменки-альпинистки был спроектирован для долгой жизни – если бы не рак. Ей не было и десяти лет, когда арестовали ее отца – она стала дочерью “врага народа”. Спустя двадцать два года после ее смерти сына назвали “иностранным агентом”. Порочный круг прикладного сталинизма замкнулся. Выскочить из него не удалось ни нашей семье, ни стране.
В очереди на оплату ухода за захоронением. Женщина спрашивает, кто последний. И ставит обычную хозяйственную сумку на пол. Раздается гулкий звук – урна коснулась кафельного пола. Все, что осталось от человека. Банальность бесконечного, обыденность метафизического.
Жизнь как способ не вляпаться в дерьмо. Окрестности превратились в собачью площадку, нужно очень внимательно следить за тем, куда ставишь ногу. Но и оказавшись в волшебных местах в предгорьях Алтая, оцепенело слушая тишину и давая передохнуть взгляду, я едва не вляпался в коровье дерьмо. Здесь тоже нужно ходить, внимательно следя за тем, куда ставишь ногу. И потому становится невозможным слушать тишину и давать отдых взгляду. Вот так и в жизни: все усилия уходят на то, чтобы не подорваться на этом минном поле.
Запах старой книги столь же многослоен, как аромат осенней листвы. Или бренди на хересе, или односолодового виски. Да и сама домашняя библиотека окружает как лес. Внутри этого леса, под корой книг-деревьев, идет своя интимная жизнь, прячутся невидимые секреты: записочки, рисунки, легкие листики троллейбусных билетов, спрессованные под спудом времени квитанции на давно исчезнувшие предметы одежды, уже отстиранные в химчистке и ушедшие в отстиранном виде в небытие.
Книги действительно похожи на деревья: они рассыхаются, медленно умирают и распадаются.
Запах книг – как запах леса. Он обрушивается на тебя, когда открываешь створки книжного шкафа. Особенно если на полках хранятся собрания сочинений, изданные в 1950-е, 1960-е, 1970-е. Драйзер, Фейхтвангер, Цвейг, Голсуорси, Гоголь, Тургенев, Хемингуэй, Гофман, Бальзак, Чехов, Роллан…
Такой же бриз книжного запаха встречал нас, когда Екатерина Юрьевна Гениева, управляющая моделью рая на земле, наследница Маргариты Рудомино, водила меня по Библиотеке иностранной литературы. Прикосновение к корешкам книг, как к стволам деревьев. Мы вместе радовались этим прикосновениям, обмениваясь взглядами, понимая друг друга. Понял бы нас и Карл Маркс, который называл своим любимым занятием действие, которое называется “рыться в книгах”. На стене моего кабинета висит небольшая репродукция: оксфордская профессура роется в книгах в темно-коричневых рембрандтовских сумерках книжного магазина Blackwell. Все они умерли; магазин остался, как и колледжи Оксфорда.
В Иностранку я приходил студентом младших курсов в годы, когда ею руководила Людмила Гвишиани-Косыгина. Я брал книги в абонементе. Однажды некий слобожанин заглянул ко мне через плечо – в метро, естественно, – его глаза пробежали по страницам “Les Mots” Сартра, и он недоверчиво спросил: “Ты тут что-нибудь понимаешь?” Вот так подлинно бесклассовая слобода смотрит со смесью презрения, недоверия и чувства неполноценности на Европу с ее невнятными буковками, которые лучше бы отменить совсем. А Иностранка при Гениевой распахнула все окна русской культуры и впустила воздух Запада – из этой атмосферной смеси рождалась свобода, гибельная для русских барака, казармы, портянки, окопа, нар, подворотни, неосвещенного, пропитанного запахом гнили и кошек подъезда. Русская культура заканчивалась, когда в Библиотеке иностранной литературы стали бороться с иностранными же культурными центрами внутри нее и выдавливать Гениеву, которую Людмила Улицкая назвала подлинным министром культуры России, с ее поста. И Екатерине Юрьевне пришлось бороться на два фронта: с властью, двигавшейся к опричнине, одичанию и крику “Гойда!”, и с онкологией. Они ее победили. Но ведь запах книг выветрить невозможно. Библиотеки – даже если ими руководят чиновники-приспособленцы – они ведь как противоракетный “Железный купол”: зло разбивается о них, не проникает внутрь.
Книга – как лес. Есть такая на книжной полке. Большеформатная. Зеленая. Одна из любимейших в детстве. Через нее прошли я, брат, два моих сына и дочка. Виталий Бианки, “Лесная газета”, подписана в печать в мае 1955-го, Ленинградское отделение Детгиза на набережной Кутузова. Самое интересное – разгадывать викторины. Бианки опередил свое время и превратил познание леса в квест уже тогда. Чтение следов – самое увлекательное. Кто здесь ходил, что делал? Почему кора ободрана именно на такой высоте, а не на другой? Какая птица что клюет и почему? Кто тут крутился на заснеженной крыше? Где тут лисий след, а где собачий? Какой-то свой мир, очень далекий от людской суеты и подлости. Хотя в разделе “Охота” всё весьма безжалостно. Потрясающая работа – целая галерея – художника-иллюстратора Валентина Курдова, учившегося у Петрова-Водкина и Малевича. Можно обзавидоваться: какое профессиональное счастье делать такой фолиант, сложнейший макет… И как важен формат: поздние малоформатные переиздания выглядят убого. И чем позднее, тем хуже.
Вот в эту книгу можно зарыться лицом и дышать ею, как лесом. Это запах дома. “И всё до боли мне знакомо. / Я дома, Господи, я дома. / Хоть и тогда хватало бед, / Но вечерами тихий свет / Мерцал под желтым абажуром”[2 - Лариса Миллер. “О, Создатель, дай ответ”.].
Память – это визуальные сполохи, выскакивающие эпизоды, связь между которыми утеряна. Но не всегда и не навсегда. Декабрь 1983-го, густо-синий вечер за окном кухни. В парадоксальной цветовой гармонии с ним темно-синий том – первый – из нового трехтомника Андрея Вознесенского. (“Три синих” – назовет он их в одном из стихотворений.) Потом пауза в памяти. Но следующий эпизод указывает на то, что тем же вечером я ехал в Лаврушинский переулок, чтобы найти квартиру Бориса Пастернака, кумира и идола. Вероятно, под влиянием эссе Вознесенского “Мне четырнадцать лет” в том же синем томе. Вошел в главный подъезд со стороны переулка, напротив Третьяковки, поднялся на какой-то этаж, потоптался у какой-то квартиры, которую по каким-то признакам счел пастернаковской. И ушел. Ведь заходить-то было некуда. Пастернака не было вот уже как двадцать три года. “И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул”[3 - Иосиф Бродский. “Я обнял эти плечи и взглянул…”.].
Содержание книги иной раз откладывается в памяти не так основательно, как обстоятельства или, точнее, осязательно-обонятельный антураж чтения. “Весь с головою в чтение уйдя, не слышал я дождя”[4 - Райнер Мария Рильке в переводе Бориса Пастернака.]. Сколько книг я прочитал, пока кормил из бутылочек молочной смесью своих младенцев, поминутно засыпавших и безмерно растягивавших процесс потребления продукта: за кормлением старшего сына в поздние восьмидесятые я освоил “Иудейскую войну” Фейхтвангера (седьмой том собрания сочинений; сдан в набор за неделю до моего рождения, в июле 1965-го). Кроме первой фразы “Шесть мостов вели через Тибр” и спорадических попыток разбудить похлопыванием по щечке ребенка, не помню ничего. И свет лампы, под которой мы сидели. Та же позиция, конец первого десятилетия XXI века, я кормлю засыпающую на руках дочь-младенца, предмет чтения – только что вышедшая “Божественная страсть” Аксенова. За окном – позднеосенняя чернота Филевского парка, единственный огонек у поворота рукава Москвы-реки – спасательная станция недалеко от причала “Кунцево”. Одна из лучших работ в мире у людей. И этот огонек – один из якорей, который удерживает на родине.
Первые Мандельштам, Цветаева, Ахматова: папиросная бумага, разноцветные самопальные переплеты – бордовый, зеленый, синий – прямо как тома детской энциклопедии 1970-х. Это уже балкон казенной квартиры в домике в “цековском” дачном поселке. Скрип алюминиевого раскладного кресла по балконной плитке. Прогулка с невестой лучшего друга в окрестных полях, по которым, если долго идти, можно добрести и до дачи Пастернака (где она потом и будет некоторое время работать по музейной части). Прочитав мои первые литературные опыты с изобилием метафор и прочих видов тропа, невеста моего друга раздраженно рецензирует: “В конце концов, всё можно сравнить со всем”. Кажется, от нее и были эти томики стихов – на несколько дней. Сама она пишет стихи в стиле обэриутов. Потом мой друг вернется из армии; первый постармейский контакт жениха и невесты, при том что они вообще-то соседи по “Юго-Западной”, мы устроим у входа в главное здание МГУ. Ошеломленные встречей спустя два года, они будут стоять у входа в сталинскую громаду. Я и сам с некоторым недоверием буду смотреть на Мишкину бритую голову и раздавшуюся вширь от дурного питания морду (потом это всё будет быстро исправлено – и голова, и морда). А в тот вечер мы пойдем на джазовый концерт здесь же, в ДК МГУ…
А в детстве книги – это ведь сначала иллюстрации. Потому я и собрал небольшую коллекцию старых детских книг, книжечек и журналов с иллюстрациями лучших художников. И даже скупил все находившиеся в букинистической продаже старые номера “Веселых картинок” – теперь их и не найти. Странные пристрастия: в раннем детстве я очень любил книгу Сергея Баруздина “Страна, где мы живем” со стилистически узнаваемыми иллюстрациями Федора Лемкуля. По ним потом мой младший сын (почему-то именно он из всех детей) в буквальном смысле познавал мир и совсем крошечным обожал пролистывать эту книгу. Подписана в печать (тогда писали “Подписана к печати”) в мае 1967-го – значит, я пристрастился к ней примерно в том же возрасте, что и сын Вася, года в два.
Мне страшно нравилась книга Евгения Мара – купленная еще брату, издана в 1960-м – “Чудеса из дерева”. Вот по ней видно, каким фантастическим книжным иллюстратором был Илья Кабаков. Интересно, что уже тогда я ухитрялся интересоваться выходными данными. И навсегда запомнил, что Детгиз – это Малый Черкасский, дом 1. Теперь там роскошная гостиница, окруженная шикарными ресторанами… А в те времена Детгиз был окружен разными продовольственными магазинами на улице 25 Октября, включая магазинчик, поштучно торговавший конфетами, – перекресток назывался Бермудский треугольник; один из ближайших ресторанов – “Берлин”, он же “Савой”, известный своими вычурными интерьерами и фонтаном, откуда до девяти вечера вылавливали для посетителей рыбу, а после девяти – уже самих посетителей. В кулинарии/буфете брали берлинское печенье в лимонной глазури.
А вот еще чудесный детский научпоп из времен детства моего брата – книга Георгия Елизаветина “Всему голова” (о хлебе) с иллюстрациями Виктора Дувидова. Ни у Дувидова, ни у еще одного классика, Виталия Горяева, не было своих детей, но сколько радости они принесли не своим детям, причем нескольким поколениям.
Книгу Бориса Бродского “Вслед за героями книг” с иллюстрациями Виктора Щапова я никогда не читал, зато часто разглядывал картинки. Издательство – “Детский мир”, потом его переименовали в “Малыш”.
Целая цивилизация пошла ко дну. А книги остались…
Пушкин начинался с Владимира Конашевича, с его иллюстраций к сказкам издания 1968 года (подписано к печати в январе 1966-го). Представления о разных оттенках синего – оттуда, из “картинок” к “Сказке о рыбаке и рыбке”.