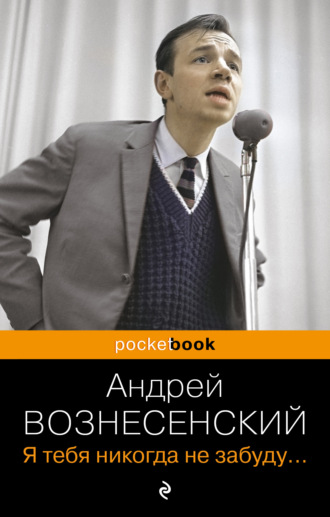
Добавить В библиотеку
Я тебя никогда не забуду…
Жанр:
Год написания книги: 2023
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Люблю я Дубну. Там мои друзья.Березы там растут сквозь тротуары.И так же независимы и талычудесных обитателей глаза. Цвет нации божественно оброс.И, может, потому не дам я дуба —мою судьбу оберегает Дубна,как берегу я свет ее берез. Я чем-то существую ради них.Там я нашел в гостинице дневник. Не к первому попала мне тетрадь:ее командировщики листали,острили на полях ее усталои засыпали, силясь разобрать. Вот чей-то почерк: «Автор-абстрактист»!А снизу красным: «Сам туда катись!» «Может, автор сам из тех, ктотешит публику подтекстом?»«Брось искать подтекст, задрыга!ты смотришь в книгу —видишь фигу».Оставим эти мудрости, дневник.Хватает комментариев без них. * * * …А дальше запись лекций начиналась,мир цифр и чей-то профиль машинальный.Здесь реализмом трудно потрястись — не Репин был наш бедный портретист.А после были вырваны листы. Наверно, мой упившийся предшественник,где про любовь рванул, что посущественней…А следующей фразой было:ТЫ X ТЫ сегодня, 16-го, справляешь деньрождения в ресторане «Берлин».Зеркало там на потолке.Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисалигости. В центре потолка нежный, как вымя,висел розовый торт с воткнутыми свечами. Вокруг него, как лампочки, ввернутыев элегантные черные розетки костюмов,сияли лысины и прически. Лиц не было видно.У одного лысина была маленькая, как дыркана пятке носка. Ее можно было закраситьчернилами. У другого она была прозрачна,как спелые яблоко, и сквозь нее, как зернышки,просвечивали три мысли (две черные и однасветлая – недозрелая). Проборы щеголей горели, как щели в копилках.Затылок брюнетки с прикнопленным прозрачнымнейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.Лиц не было видно. Зато перед каждым, кактаблички перед экспонатами, лежали бумажки,где кто сидит. И только одна тарелка былабелая, как пустая розетка. «Скажите, а почему слева от хозяйкипустое место?»«Генерала, может, ждут?» – «А может,помер кто?»Никто не знал, что там сижу я. Я невидим.Изящные денди, подходящие тебя поздравить,спотыкаются об меня, царапают вилками.Ты сидишь рядом, но ты восторженночужая, как подарок в целлофане. Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-тоэтакого! Поближе к жизни, не от мира сего…чтобы модерново…»Поэт подымается (вернее опускается,как спускают трап с вертолета). Голос егостранен, как бы антимирен ему. Молитва Матерь Владимирская, единственная,первой молитвой – молитвой последнею —я умоляю —стань нашей посредницей.Неумолимы зрачки Ее льдистые. Я не кощунствую – просто нет силы,жизнь забери и успехи минутные,наихрустальнейший голос в России —мне ни к чему это! Видишь – лежу – почернел, как кикимора.Всё безысходно…Осталось одно лишь —грохнись ей в ноги,Матерь Владимирская,может, умолишь, может, умолишь… Читая, он запрокидывает лицо. И на егобелом лице, как на тарелке, горел нос,точно болгарский перец.Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну итостик!» Слово берет следующий поэт.Он пьян вдребезину. Он свисает с потолкавниз головой и просыхает, как полотенце.Только несколько слов можноразобрать из его бормотанья: – Заонежье. Тает теплоход.Дай мне погрузиться в твое озеро.До сих пор вся жизнь моя —Предозье.Не дай Бог – в Заозье занесет… Все замолкают.Слово берет тамада Ъ.Он раскачивается вниз головой, как длинныймаятник. «Тост за новорожденную».Голос его, как из репродуктора, разноситсяс потолка ресторана. «За ее новоерождение, и я, как крестный… Да, а какзовут новорожденную?» (Никто не знает.)Как это всё напоминает что-то! И под этим подвешенным миром внизурасположился второй, наоборотный, со своимпоэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не касаютсязатылками друг друга, симметричные,как песочные часы. Но что это? Где я?В каком идиотском измерении? Что этоза потолочно-зеркальная реальность?Что за наоборотная страна?!Ты-то как попала сюда?Еще мгновение, и всё сорвется вниз,вдребезги, как капли с карниза! Задумавшись, я машинально глотаюбутерброд с кетовой икрой.Но почему висящий напротив, как окорок,периферийный классик с ужасом смотритна мой желудок? Боже, ведь я-то невидим,а бутерброд реален! Он передвигаетсяпо мне, как красный джемпер в лифте. Классик что-то шепчет соседу.Слух моментально пронизывает головы,как бусы на нитке.Красные змеи языков ввинчиваются в ушисоседей. Все глядят на бутерброд.«А нас килькой кормят!» – вопит классик.Надо спрятаться! Ведь если они обнаружатменя, кто же выручит тебя, кто жеразобьет зеркало?! Я выпрыгиваю из-за стола и ложусьна красную дорожку пола. Рядом со мной,за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо,жмут кому-то. Левая припала к правой.(Как всё напоминает что-то!)Тебя просят спеть… Начинаются танцы. Первая пара с хрустомпроносится по мне. Подошвы! Подошвы!Почему все ботинки с подковами?Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам.Чьи-то каблучки, подобно швейноймашинке, прошивают мне кожу на лице.Только бы не в глаза!..Я вспоминаю всё. Я начинаю понимать всё.Роботы! Роботы! Роботы! Как ты, милая, снишься!«Так как же зовут новорожденную?» —надрывается тамада.«Зоя! – ору я. – Зоя!» А может, ее называют Оза? XI Знаешь, Зоя, теперь – без трепа.Разбегаются наши тропы.Стоит им пойти стороною,остального не остановишь. Помнишь, Зоя, – в снега застеленную,помнишь Дубну, и ты играешь.Оборачиваешься от клавиш.И лицо твое опустело.Что-то в нем приостановилосьи с тех пор невосстановимо. Всяко было – и дождь, и радуги,горизонт мне являл немилость.Изменяли друзья злорадно.Только ты не переменилась. Зоя, помнишь, пора иная?Зал, взбесившийся как свинарня…Если жив я назло всем слухам,в том вина твоя иль заслуга. Когда беды меня окуривали,я, как в воду, нырял под Ригу,сквозь соломинку белокуруюты дыхание мне дарила. Километры не разделяют,а сближают, как провода,непростительнее, когдамиллиметры нас раздирают! Если боли людей сближают,то на чёрта мне жизнь без боли?Или, может, беда блуждаетне за мной, а вдруг за тобою? Нас спасающие – неспасаемы.Что б ни выпало претерпеть,для меня важнейшее самое —как тебя уберечь теперь! Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?И из леточертанья, что были нами,опечаленно машут вслед. Горько это, но тем не менеенам пора… Вернемся к поэме. XII Экспериментщик, чертова перечница,изобрел агрегат ядреный.Не выдерживаю соперничества.Будьте прокляты, циклотроны! Будь же проклята ты, громадапрограммированного зверья.Будь я проклят за то, что яслыл поэтом твоих распадов! Мир – не хлам для аукциона.Я – Андрей, а не имярек.Все прогрессы —реакционны,если рушится человек. Не купить нас холодной игрушкой,механическим соловейчиком!В жизни главное – человечность —хорошо ль вам? красиво ль? грустно? Проклинаю псевдопрогресс.Горло саднит от тех словес.Я им голос придал и душу,будь я проклят за то, что в грядущем, порубав таблеток с эссенцией,спросит женщина тех времен:«В третьем томике Вознесенскогочто за зверь такой Циклотрон?» Отвечаю: «Их кости ржавы,отпугали, как тарантас.Смертны техники и державы,проходящие мимо нас. Лишь одно на земле постоянно,словно свет звезды, что ушла, —продолжающееся сияние,называли его душа. Мы растаем и снова станем,и неважно, в каком бору,важно жить, как леса хрустальныпосле заморозков поутру. И от ягод звенит кустарник.В этом звоне я не умру». И подумает женщина: «Странно!Помню Дубну, снега с кострами.Были пальцы от лыж красны.Были клавиши холодны. Что же с Зоей?»Та, физик давняя?До свидания, до свидания. Отчужденно, как сквозь стекло,ты глядишь свежо и светло.В мире солнечно и морозно… Прощай, Зоя.Здравствуй, Оза! XIII Прощай, дневник, двойник души чужой,забытый кем-то в дубненской гостинице.Но почему, виски руками стиснув,я думаю под утро над тобой? Твоя наивность странна и смешна.Но что-то ты в душе моей смешал. Прости царапы моего пера.Чудовищна ответственность касатьсячужой судьбы, тревог, галлюцинаций!Но будь что будет! Гранки ждут. Пора. И может быть, нескладный и щемящий,придет хозяин на твой зов щенячий.Я ничего в тебе не изменил,лишь только имя Зоей заменил. XIV На крыльце,очищая лыжи от снега, я поднял голову. Шел самолет.И за нимна неизменном расстояниилетел отставший звук, прямоугольный,Как прицеп на буксире.
Дубна – Одесса, март 1964
Киж-озеро
Мы – Кижи,я – киж, а ты – кижиха.Ни души.И все наши пожитки —ты, да я, да простенький плащишко,да два прошлых,чтобы распроститься! Мы чужинаветам и наушникам,те Кижирешат твое замужество,надоело прятаться и мучиться,лживые обрыдли стеллажи,люди мы – не электроужи,от шпионов, от домашней лжинас с тобой упрятали Кижи. Спят Кижи,как совы на нашесте,ворожбы,пожарища, нашествия,мы свежи —как заросли и воды,оккупированныесвободой!Кыш, Кижи… …а где-нибудь на Камедва подобья наших с рюкзаками,он, она —и все их багажи,убежали и – недосягаемы.Через всю Россиюночникамиих костры – как микромятежи. Раньше в скит бежали от грехов,нынче удаляются в любовь.1964
Сан-Франциско – Коломенское
Сан-Франциско – это Коломенское.Это свет посреди холма.Высота, как глоток колодезный,холодна. Я люблю тебя, Сан-Франциско;испаряются надо мнойперепончатые фронтисписы,переполненные высотой. Вечерами кубы парившиенаполняются голубым,как просвечивающие курильщикитянут красный тревожный дым. Это вырезанное из небаи приколотое к мостамугрызение за изменумоим юношеским мечтам. Моя юность архитектурная,прикурю об огни твои,сжавши губы на высшем уровне,побледневшие от любви. Как обувка, возле отелялимузины столпились в ряд,будто ангелы улетели,лишь галоши от них стоят. Мы – не ангелы. Черт акцизныйшлепнул визу – и хоть бы хны…Ты вздохни по мне, Сан-Франциско.Ты, Коломенское,вздохни…1966
Не пишется
Я – в кризисе. Душа нема.«Ни дня без строчки», – друг мой точит.А у меня —ни дней, ни строчек. Поля мои лежат в глуши.Погашены мои заводы.И безработица душизияет страшною зевотой. И мой критический истецв статье напишет, что, окрысясь,в бескризиснейшей из системодин переживаю кризис. Мой друг, мой северный,мой неподкупный друг,хорош костюм, да не по росту.Внутри всё ясно и вокруг —но не поется. Я деградирую в любви.Дружу с оторвою трактирною.Не деградируете вы —я деградирую. Был крепок стих, как рафинад.Свистал хоккейным бомбардиром.Я разучился рифмовать.Не получается. Чужая птица издалипростонет перелетным горем.Умеют хором журавли.Но лебедь не умеет хором. О чем, мой серый, на ветруты плачешь белому Владимиру?Я этих нот не подберу.Я деградирую. Семь поэтических томовв стране выходит ежесуточно.А я друзей и городовбегу как бешеная сука, в похолодавшие лесаи онемевшие рассветы,где деградирует веснана тайном переломе к лету… Но верю я, моя родня —две тысячи семьсот семнадцатьпоэтов нашей федерации —стихи напишут за меня. Они не знают деградации.1967
Осеннее вступление
Развяжи мне язык, Муза огненных азбучищ.Время рев испытать.Развяжи мне язык, как осенние вязы развязываешьв листопад, Развяжи мне язык – как снимают ботинок,чтоб ранимую землю осязать босиком,как гигантское небоэпохи Батыясковородку Земли,обжигаясь, берет языком. Освежи мне язык, современная Муза.Водку из холодильника в рот наберя,напоила щекотно,морозно и узко!Вкус рябины и русского словаря. Онемевшие залы я бросал тебе под ноги вазами,оставляя заик,как у девки отчаянной,были трубы моиперевязаны.Разреши меня словом. Развяжи мне язык. И никто не знавал, как в душевной изжогеобдирался я в клочья —вам виделся бзик?Думал – вдруг прозревают от шока!Развяжи мне язык. Время рева зверей. Время линьки архаров.Архаическим ревомвзрывая кадык,не латинское «Август», а древнее «3арев»,озари мне язык. Заревзаваленных базаров, грузовиков,зарев разрумяненных от плиты хозяек,зарев,когда чащи тяжелы и пузаты,а воздух над полем вздрагивает, как ноздри,в предвкушении перемен,когда звери воют в сладкой тревоге,зарев,когда видно от Москвы до Хабаровскаи от костров картофельной ботвы до костров Батыя,зарев,когда в левом верхнем углужемчужно-витиеватой березызамерла белка,алая, как заглавная буквицаИпатьевской летописи,ах, Зарев,дай мне откусить твоего запева! Заревает история.Зарев тура, по сердцу хвати.И в слезах, обернувшись, над трупом Сахары,львы ревут,как шесты микрофонов,воздев вертикально с помпушкой хвосты —Зарев! Мы лесам соплеменны,в нас поют перемены.Что-то в нас назревает.Человек заревает. Паутинки летят. Так линяет пространство.Тянет за реку.Чтобы голос обресть – надо крупно расстаться,зарев,зарев – значит «прощай!», зарев – значит«да здравствует завтра!». Как горящая пакля, на сучках клочья волчьии песьи. Звери платят ясак за провидческий рык.Шкурой платят за песню.Развяжи мне язык. Я одет поверх курткив квартиру с коридорами-рукавами,где из почтового ящика,как платок из кармана, газета торчит,сверху дом,как боярская шубакаменными мехами. —Развяжи мне язык. Ах, мое ремесло – самобытное? Нет, самопытное!Оббиваясь о стены, во сне, наяву,ты пытай меня, Время, пока тебе слово не выдам.Дай мне дыбу любую. Пока не взреву. Зарев новых словес. Зарев зрелых предчувствий,революций и рас.Зарев первой печурки,красным бликом смеясь…Запах снега Пречистый,изменяющий вас. * * * Человечьи кричит на шоссебелка, крашенная, как в Вятке, —алюминиевая уже,только алые морда и лапки.1967
Роща
Не трожь человека, деревце,костра в нем не разводи.И так в нем такое делается —Боже, не приведи! Не бей человека, птица.Еще не открыт отстрел.Круги твои —ниже,тише.Неведомое – острей. Неопытен друг двуногий.Вы, белка и колонок,снимите силки с дороги,чтоб душу не наколол. Не браконьерствуй, прошлое.Он в этом не виноват.Не надо, вольная рощица,к домам его ревновать. Такая стоишь тенистая,с начесами до бровей —травили его, освистывали,ты-то хоть не убей! Отдай ему в воскресениевсе ягоды и грибы,пожалуй ему спасение,спасением погуби.1968
Художник Филонов
С ликом белее мела,в тужурочке вороненой,дай мне высшую меру,комиссар Филонов! Высшую меру жизни,высшую меру голоса,высокую,как над жижей,речь вечевого колокола. Был ветр над Россией бешеный,над взгорьями городовкрутило тела повешенных,как стрелки гигантских часов. На столике полимеровом —трефовые телефоны.Дай мне высшую меру,комиссар Филонов. Сегодня в Новосибирскекристального сентябрядоклад о тебе бисируютстуденты и слесаря. Суровые пуловерыугольны и лимонны.Дай им высшую веру,Филонов! Дерматиновый обывательсквозь пуп,как в дверной глазок,выглядывал: открывать ильнадежнее – на засов! Художник вишневоглазыйлеса писал сквозь прищур,как проволочные каркасыне бывших еще скульптур. Входила зима усмейно.В душе есть свои сезоны.Дай мне высшую Смену,Филонов. Небо, кто власы твои вычесывает статные?И воды с голубями?По силуэтному мосту идут со станции,отражаясь в реке, как гребеньс выломанными зубьями.1967
Бар «Рыбарска хижа»
Божидару Божилову
Серебряных несебрских рыбинрубаем хищно.Наш пир тревожен. Сижу, не рыпаюсьв «Рыбарске хиже». Ах, Божидар, антенна Божья,мы – самоеды.Мы оба тощи. Мы рыбы тоже.Нам тошно это. На нас – тельняшки, меридианы —жгут, как веревки.Фигуры наши – как Модильяни —для сковородки. Кто по-немецки, кто по-румынски…Мы ж – ультразвуки.Кругом отважно чужие мыслии ультращуки. Кто нас услышит? Поймет? Ответит?Нас, рыб поющих?У Времени изящны сетии толсты уши. Нас любят женыв чулках узорных,они – русалки. Ах, сколько сетокв рыбачьих зонахмы прокусали! В банкетах пресныхнас хвалят гости,мы нежно кротки.Но наши песнивонзятся костьюв чужие глотки!1967
Старая песня
Г. Джагарову
Пой, Георгий, прошлое болит.На иконах – конская моча.В янычары отняли мальца.Он вернется – родину спалит. Мы с тобой, Георгий, держим стол.А в глазах – столетия горят.Братия насилуют сестер.И никто не знает, кто чей брат. И никто не знает, кто чей сын,материнский вырезав живот.Под какой из вражеских личинраненая родина зовет? Если ты, положим, янычар,не свои ль сжигаешь алтари,где чужие – можешь различать,но не понимаешь, где свои. Вырванные груди волоча,остолбеневая от любви,мама, плюнешь в очи палача.Мама! У него глаза – твои.август 1968
Оленья охота
Трапециями колеблющимисяскользая через лес,олени,как троллейбусы,снимают токс небес. Я опоздал к отходу ихна пару тысяч лет,но тянет на охоту —вслед… Когда их Бог задумал,не понимал и сам,что в душу мне задуеттоску по небесам. Тоскующие дулапротянуты к лесам! О, эта зависть резкая,два спаренных ствола —как провод перерезанныйк природе, что ушла. Сквозь пристальные годытоскую по тому,кто опоздал к отлету,к отлову моему!1968
Из книги «Взгляд»
Собакалипсис
Моим четвероногим слушателям Университета Саймон Фрейзер
Верювсякому зверю,тем пачеобожаю концерт собачий! Я читаю полулегальноевам, борзая, и вам, легавая! Билетерами не опознан,на концерт мой пришел опоссум.И, приталенная как у коршуна,на балконе присела кожанка. Мне запомнилась – гибкой масти,изнывая, чтоб свет погас,до отказа зевнула пастью,точно делают в цирке шпагат. С негой блоковской Незнакомки,прогибающаяся спиной,она лапы, как ножки шезлонга,положила перед собой. Зал мохнат от марихуаны,в тыщу глаз, шалый кобель.В «Откровении Иоанна»упомянут подобный зверь. Грозный зверь, по имени Фатум,и по телу всему – зрачки.Этот зверь – лафа фабриканту,выпускающему очки! Суди, лохматое поколенье!Если не явится Бог судить —тех, кто вешает нас в бакалейне,тех, кто иудить пришел и удить. И стоял я, убийца слова,и скрипел пиджачишко мой,кожа, содранная с коровы,фаршированная душой. Где-то сестры ее мычалив электродоильниках-бигуди.Елизаветинские медалиу псов поблескивали на груди. Вам, уставшие от «мицуки»,Я выкрикиваю приветот московской безухой суки,у которой медалей нет. Но зато эта сука – певчая.И уж ежли дает концерт,все Карузо отдали б печениза господень ее фальцет! Понимали без переводаЛапа Драная и Перо,потому что стихов природа —не грамматика, а нутро. Понимали без переводаи не англо-русский словарь,а небесное, полевоеи где в музыке не соврал… Я хочу, чтоб меня поняли.Ну а тем, кто к стихам глухи,Улыбнется огромный колли,обнаруживая клыки.1969
Донор дыхания
Так спасают автогонщиков.Врач случайная, не ждавши «скорой помощи»,с силой в легкие вдувает кислород —рот в рот! Есть отвага медицинская последняя —без посредников, как жрица мясоедная,рот в рот,не сестрою, а женою милосердиядушу всю ему до донышка дает —рот в рот,одновременно массируя предсердие. Оживаешь, оживаешь, оживаешь.Рот в рот, рот в рот, рот в рот.Из ребра когда-то созданный товарищ,она вас из дыханья создает. А в ушах звенит, как соло ксилофона,мозг изъеден углекислотою.А везти его до Кировских Ворот!(Рот в рот. Рот в рот. Рот в рот.)Синий взгляд как пробка вылетит из-подвек, и легкие вздохнут, как шар летательный.Преодолевается летальныйисход… «Ты лети, мой шар воздушный, мой минутный.Пусть в глазах твоихмной вдутый небосвод.Пусть отдашь мое дыхание кому-торот – в рот…»1970
Молитва
Когда я придаю бумагечерты твоей поспешной красоты,я думаю не о рифмовке, —с ума бы не сойти! Когда ты в шапочке бассейнойко мне припустишь из воды,молю не о души спасенье, —с ума бы не сойти! А за оградой монастырской,как спирт ударит нашатырный,послегрозовые сады, —с ума бы не сойти! Когда отчетливо и грубострекозы посреди полейстоят, как черные шурупыстеклянных, замерших дверей, такое растворится лето,что только вымолвишь: «Прости,за что мне это, человеку!С ума бы не сойти!» Куда-то душу уносили —забыли принести.«Господь, – скажу, – или Россия,назад не отпусти!»1970
Женщина в августе
Присела к зеркалу опять,в себе, как в роще заоконной,всё не решаешься признатькрасы чужой и незнакомой. В тоску заметней седина.Так в ясный день в лесу по-летнемулиства зеленая видна,а в хмурый – медная заметнее.1971
Кабанья охота
Он претна тебя, великолепен.Собакпо пути позарезав.Лупи!Ну а ежели не влепишь —нелепо перезаряжать! Он черен. И он тебя заметил.Он жмет по прямой, как глиссера.Уже между вами десять метров.Но кровь твоя четко-весела. * * * Очнусь – стол как операционный.Кабанья застольная компанийкана восемь персон. И порционный,одетый в хрен и черемшу,как паинька,на блюде – ледяной, саксонской,с морковочкой, как будто с соской,смиренный, голенький лежу. Кабарышни порхают меж подсвечников.Копытца их нежны, как подснежники.Кабабушка тянется к ножу. В углу продавил четыре стулацентр тяжести литературы.Лежу. Внизу, элегически рыдая,полны электрической тоски,коты с окровавленными ртами,вжимаясь в скамьи и сапоги,визжат, как точильные круги! (А кот с головою стрекозы,порхая капроновыми усами,висел над столом и, гнусавя,просил кровяной колбасы.) Озяб фаршированный животик.Гарнир умирающий поет.И чаши торжественные сводятнад нами хозяева болот.Собратья печальной литургии,салат, чернобыльник и другие,ваш хорменя возвращает вновь к Природе,оч. хор.,и зерна, как кнопки на фаготе,горят сквозь моченый помидор. * * * Кругом умирали культуры —садовая, парниковая, византийская,кукурузные кудряшки Катулла,крашеные яйца редиски(вкрутую),селедка, нарезанная, как клавиатураперламутрового клавесина,попискивала.Но не сильно. А в голубых листах капусты,как с рокотовских зеркал,в жемчужных париках и бюстахвек восемнадцатый витал. Скрипели красотой атласнойкочанные ее плеча,мечтали умереть от ласкии пугачевского меча. Прощальною позолотойпетергофская нимфа лежала,как шпрота,на черством ломтике пьедестала. Вкусно порубать Расина!И, как гастрономическая вершина,дрожал на столеаромат Фета, застывший в кувшинках,как в гофрированных формочках для желе.И умирало колдовствов настойке градусов под сто. * * * Пируйте, восьмерка виночерпиев.Стол, грубо сколоченный, как плот.Без кворума Тайная Вечеря.И кровь предвкушенная, и плоть. Клыки их вверх дужками закручены.И рыла тупые над столом —как будто в мерцающих уключинахплывет восьмивесельный паром. Так вот ты, паромище Харона,и Стикса пустынные воды.Хреново.Хозяева, алаверды! * * * Я пью за страшенную свободуотплыть, усмехнувшись, в никогда.Мишени несбывшейся охоты,рванем за усопшего стрелка! Чудовище по имени Надежда,я гнал за тобой, как следопыт.Все пули уходили, не задевши.Отходную! Следует допить. За пустоту по имени Искусство.Но пью за отметины дробин.Закусывай!Не мсти, что по звуку не добил.А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю.Ты обозналась. Ты вина чужая!Молчит она. Она не ест, не пьет.Лишь на губах поблескивает лед. А это кто? Ты? Ты ж меня любила!Я пью, чтоб в Тебе хватило силывзять ножик в чудовищных гостях.Простят убийство —промах не простят. Пью кубок свой преступный, как агрессори вор,который, провоцируя окрестности,производил естественный отбор! Зверюги прощенье ощутили,разлукою и хвоей задышав.И слезы скакали по щетине,и пили на брудершафт. * * * Очнулся я, видимо, в бессмертье.Мы с ношей тащились по бугру.Привязанный ногами к длинной жерди,отдав кишки жестяному ведру,качался мой хозяин на пиру. И по дороге, где мы проходили,кровь свертывалась в шарики из пыли.1970
«Жадным взором василиска…»
Жадным взором василискавижу: за бревном, остро,вспыхнет мордочка лисички,точно вечное перо! Омут. Годы. Окунь клюнет.Этот невозможный садвзять с собой не разрешат.И повсюду цепкий взгляд,взгляд прощальный. Если любят,больше взглядом говорят.1971
Кромка
Над пашней сумерки нерезки,и солнце, уходя за лес,как бы серебряною рельсойзажжет у пахоты обрез. Всего минуту, как ужаля,продлится тайная краса.Но каждый вечер приезжаюглядеть, как гаснет полоса. Моя любовь передвечерняя,прощальная моя любовь,полоска света золотаяпод затворенными дверьми.1970
Яблоки с бритвами
Хэллувин, Хэллувин – ну куда Голливуд?! —детям бритвы дают, детям бритвы дают. В Хэллувин, в Хэллувин с маскарадными ритмамипо дорогам гуляет осенний пикник.Воздух яблоком пахнет,но яблоком с бритвами.На губах перерезанный бритвою крик. Хэллувин – это с детством и летом разлука.Кто он? – сука? насмешник? добряк? херувим?До чего ты страшна, современная скука!Хэллувин… Ты мне шлешь поздравленья, слезами облитые,хэллувиночка, шуточка, девичий пыл,но любовь – это райское яблоко с бритвами.Сколько раз я надкусывал, сколько дарил… Благодарствую, Боже, твоими молитвамижизнь – прекрасный подарочек. Хэллувин.И за яблоки с бритвами, и за яблоки с бритвамиты простишь нас. И мы тебя, Боже, простим. Но когда-нибудь в Судное время захочети тебя и меня на Судилище томдопросить усмехающийся ангелочек,семилетний пацан с окровавленным ртом!1972

