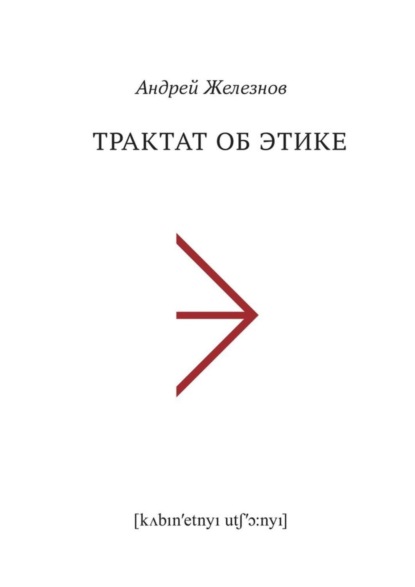По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Трактат об этике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кант выводит мораль из-под антропологии не только потому, что это соответствует его теоретической программе. Самостоятельность морали в большей степени связана с тем, как мы фактически судим о ней в повседневном опыте. Максиме следования склонностям (или природе) «не хватает нравственного достоинства» [Кант 1965: 234], а «добрая воля» (термин, который используется для обнаруживаемого в повседневном опыте морального начала) «добра не благодаря тому, что она приводит в действие или исполняет; она добра не в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь поставленной цели, а только благодаря волению, т.е. сама по себе». [Кант 1965: 229]. Кант говорит, что «мораль не будет моральной», если мы будем рассматривать ее в качестве воплощения естественных или социальных мотивов. И делая это утверждение, он опирается не на категорийный аппарат или очевидность телеологии человека, но отсылает скорее к очевидности морального опыта.
Из посылки об отсутствии у морального действия внешних целей делается радикальный вывод: моральное приравнивается только лишь к форме, лишаясь всякого содержания. Отказавшись от поиска моральности в целях поступка, Кант обнаруживает ее в формальных принципах: «поступок из чувства долга имеет свою моральную ценность не в той цели, которая может быть посредством него достигнута, а в той максиме, согласно которой решено было его совершить…» [Кант 1965: 235]. Мы не можем судить по результату о том, каковы были наши намерения (приведшие к этому результату), а значит, моральное действие определяется не намерениями, а только его формой. Долг признается высшей ценностью, потому что ради него можно действовать, игнорируя личные склонности или интересы.
Здесь мы получаем ту же проблему, которую видели выше у Аристотеля: определение критерия моральности должно быть дополнено ответом на вопрос, почему мы будем следовать этому критерию, в чем наш интерес его выполнения. Отвергая в качестве основания морали «естественную необходимость», Кант подкладывает под мораль иное внешнее основание – устройство разума. Разум в универсальном его смысле может определять цели для свободной воли: «То, что служит воле объективным основанием ее самоопределения, есть цель, а цель, если она дается только разумом, должна иметь одинаковую значимость для всех разумных существ» [Кант 1965: 267]. Получается, что так же, как у Аристотеля, разумность или способность управлять собственным поведением приравнивается к цели (телосу) человека. Здесь, правда, есть серьезное отличие: разум дан нам не для счастья: «надо признать, что в основе таких суждений скрыто лежит идея другой и гораздо более достойной цели нашего существования; именно для этой цели, а не для счастья предназначен разум, и ее как высшее условие должны, поэтому, большей частью предпочитать личным целям человека», «истинное назначение его должно состоять в том, чтобы породить не волю как средство для какой-нибудь другой цели, а добрую волю самое по себе» [Кант 1965: 231].
Кант задает именно свойства разума в качестве изначальной очевидности или изначальной реальности, определяющей должное. Этот жест по большому счету снимает принципиальную методологическую разницу между его этикой и концепциями, которые мы называли онтологически обоснованными. Освобождая моральный поступок от опыта и антропологии, Кант в конечном итоге подчиняет его конкретной трактовке разума. Если бы мы хотели упростить, нам бы ничто не мешало сказать, что разум в данном случае тождественен понятию человеческой природы или заменяет собой онтологические принципы.
Обсуждая Канта, интересно заметить, как, начиная с опытной очевидности морали, он делает круг и возвращается к универсальному ее обоснованию в разуме. Этот круг хорошо заметен, когда мы проговариваем связь свободы и морали. Мы с необходимостью мыслим собственную свободу, потому что она составляет основу разума: «Как разумное, стало быть, принадлежащее к умопостигаемому миру, существо, человек может мыслить причинность своей собственной воли, только руководствуясь идеей свободы; ведь независимость от определяющих причин чувственно воспринимаемого мира (какую разум необходимо должен всегда приписывать самому себе) есть свобода. С идеей же свободы неразрывно связано понятие автономии, а с этим понятием – всеобщий принцип нравственности, который в идее точно так же лежит в основе всех действий разумных существ, как закон природы в основе всех явлений» [Кант 1965: 297]. Свобода одновременно и обосновывает разумность и обосновывается ей же. Сама разумность или необходимость свободного направления воли (с помощью разума) необходима исходя из факта наличия морального опыта: нет морального достоинства в том, чтобы мыслить наши действия только как продолжение внешних причин. Но устройство морали в свою очередь задается свойствами разума. Проблематичность этого круга задана, как нам кажется, неправильным направлением расшифровки того взаимного переплетения морали, разума и свободы, которое Кант обнаруживает в реальном опыте. Действительно, разумность морали и свобода разума представляют две стороны одной медали, однако, как мы покажем в собственном рассуждении, эта связь не должна приводить нас к попытке обосновать одно через другое.
Желание объяснить и определить моральное с точки зрения разума в конечном итоге приводит к тому, что Кант определяет разум и его свойства в качестве оснований этики. И здесь мы получаем проблему, которая зеркальна проблеме этики Спинозы. Если у меня нет внешней необходимости быть моральным, но я должен бы быть таковым по причине собственной разумности, то значит ли это, что я с необходимостью буду морален, постольку, поскольку обладаю разумом? Почему бы мне не действовать аморально, даже если я разумен? Если разум не приводит меня с необходимостью к моральности, значит, причиной моральности является не разум. Или не только разум. И значит, что основание морали находится в чем-то еще. Разум и его законы у Канта действуют аналогично субстанции: они либо должны определить наше поведение (и уничтожить мораль), либо, если они не в состоянии этого сделать, то и рассуждение о них не требуется.
Эмпирические подходы к морали
До сих пор, показывая примеры онтологического обоснования морали, мы обсуждали концепции, которые можно назвать «рационалистическими» в том смысле, что они сначала полагали некоторые общие принципы, из которых затем дедуктивно выводилась мораль. Вместе с тем, онтологическое обоснование характерно и для эмпирических подходов к морали. Онтологическое обоснование морали встраивается в эмпирический подход, нарушая его последовательность. Вместо того чтобы выводить из опыта собственно свойства морали, из него выводились некоторые свойства человеческой природы, которые в свою очередь становились общим принципом, задающим моральное поведение. Так происходит в концепциях, утверждающих, что основа морали – это некоторое специальное моральное чувство или жалость.
Понятие морального чувства используют, например, Хатчесон и Шефтсберри. Это «моральное чувство» [Shaftsbury 1999], [Hutcheson 1755] приравнивается к восприятию вкуса или цвета и признается обязательным свойством человеческой природы. Таким образом, фиксация в качестве эмпирического факта человеческой способности делать моральные суждения приводит не к разбору того «что именно и как мы фиксируем», а к утверждению абстракции «морального чувства». Начиная с очевидности опыта, мы как бы перескакиваем стадию обобщения, которая должна бы дать ответ о содержании морали, и переходим к абстрактным сущностям. Фактически в таком подходе воспроизводится сюжет онтологического обоснования морали: должное выводится из природы человека.
Аналогичная логика распространяется не только на специальное «моральное чувство», но и на другие способы связать мораль и чувства, например, жалость. Жалость в качестве основания моральности использует Руссо. Она рассматривается как основание для естественного сообщества или естественной моральности. Жалость присуща природе человека, это первая страсть, «первое относительное чувствование, трогающее сердце человеческое, если человек следует порядку природы» [Руссо 1981: 247].
При этом нельзя сказать, что жалость открывается в глубине морального опыта. Скорее, она полагается в качестве фундаментального свойства человеческой природы, делающего возможным сообщество и отношения. «И в самом деле, отчего возникает в нас жалость, как не оттого, что мы переносим себя на место другого и отождествляем себя со страдающим живым существом, покидаем, так сказать, свое бытие, чтобы пережить жизнь другого? Мы страдаем лишь настолько, насколько представляем его страдания; мы страдаем не в нас самих, а в нем. Таким образом, всякий делается чувствительным лишь тогда, когда его воображение оживляется и начинает переносить его за пределы собственного бытия» [Руссо 1981: 260]. Жалость возникает в тот момент, когда человек становится способен выходить за пределы собственного бытия и жить через другого. Этот перенос связан с осознанием собственной слабости и ограниченности. «Слабость человека делает его общительным; общие наши бедствия – вот, что располагает наши сердца к человечности… Всякая привязанность есть признак несостоятельности; если бы каждый из нас не имел никакой нужды в других, он не подумал бы соединиться с ними» [Руссо 1981: 258]. Естественному человеку, кроме любви к себе, присуща также и своего рода «неполнота», нужда в другом, и именно из этого основания берет свое начало жалость.
Это описание жалости в виде трансцендентальной способности и свойства человеческой природы повторяет тот же сюжет, который мы видели выше у Шефтсбери. Обнаруживаемая в природе человека жалость не подвергается анализу с целью выяснения смысла ее моральности. Вместо этого она рассматривается в качестве естественного основания, к которому сводится мораль. Место анализа морального опыта или опыта жалости вновь занимает онтология или антропология, а эмпирический потенциал подхода теряется.
Более сложную, многоступенчатую реализацию эмпирического подхода мы можем найти у Юма в «Трактате о человеческой природе». Он тоже начинает с необходимости анализа опыта, в котором находит общее абстрактное свойство человеческой природы, а не свойства морального. Юм утверждает, что основания этики следует искать в практическом или повседневном опыте. Однако анализ реального опыта вскрывает не реальность морали, а реальность аффектов, удовольствия и страдания. Происхождение аффектов рассматривается именно через их связь со страданием и удовольствием, а добродетель и порок, в конечном итоге, сводятся к таким состояниям, которые приводят к определенного рода удовольствиям и страданиям. При этом, «очевидность» удовольствий остается на очень поверхностном уровне.
Подмена, которую мы имеем в философии Юма, близка к той, что мы уже наблюдали у Бентама. Место анализа морального опыта занимает тут апелляция к очевидности удовольствий и страданий. Очевидность страданий и удовольствий, а вовсе не очевидность морального, становится основанием этики. Поэтому вновь получается, что моральное обосновано не его собственным анализом, а представлением о человеческой природе (пусть и полученным в виде некоторого эмпирического анализа).
Аналогичным образом вводится естественность эгоизма, она также не анализируется, не изучается, но считается понятной всем. И в этом всеобщем понимании упрощается. Прагматичное обоснование морали, к которому приходит Юм, в итоге заключается в том, что реализация естественного эгоизма (заключающаяся в получении удовольствий) требует корректировки поведения, исходя из осознания неизбежности совместного существования.
До сих пор мы говорили только о классических концепциях, можно сказать пару слов и о современных. В рамках исследований морали, которые также можно отнести к эмпирическому направлению, мы обнаруживаем повторение уже разобранных ранее приемов. Например, попытки показать эмпирическую или даже перцептивную сущность этического (морального) у Эндрю Кулисона [Cullison 2010] и Роберта Ауди [Audi 2013], утверждают наличие в нашем восприятии непосредственных возможностей для различения морального и внеморального и делают вывод об эмпирической сущности морального. Или попытки показать зависимость этического суждения от переживания сочувствия (сопереживания боли другого), как это делает, например, Джозеф Корби [Corbi 2012], показывая, что для принятия морального решения гораздо важнее реальный опыт (опыт страдания или сочувствия), чем какие бы то ни было рассуждения. Важно, что сочувствие в данном контексте рассматривается не в качестве способа верификации (маркера, признака) для проверки суждения о должном, но является источником этого суждения: не суждение подтверждается страданием, но (со) страдание описывается суждением.
Таким образом, можно говорить об общем ограничении реализаций эмпирического подхода. Если сильная сторона эмпиризма – это его потенциальная способность обойти привязку к спекуляции и к онтологии, сделать вывод о морали вне любой теоретической необходимости, то его реализация до сих пор не была удовлетворительной. Эмпирическое обоснование не доводится до конца: вместо того, чтобы разобраться с тем, что собой представляет моральный поступок по существу, авторы каждый раз обрывают логику и начинают декларировать общий принцип, который должен определить мораль. Вместо того чтобы сделать понимание опыта морального основанием для суждений о морали, ее форме и содержании, эмпирический анализ сводится к открытию природы человека, исходя из которой уже делается вывод о морали. После первого жеста, утверждающего очевидность морального опыта, происходит подмена. Обнаруженные «за» опытом жалость или перцепция функционируют как спекулятивный принцип, с которым будет соизмеряться моральность поступка. Поэтому в рассуждении о конкретной морали мы имеем дело не с обобщением реального опыта, а с натягиванием на этот опыт некоторых общих суждений. При таком подходе мы не разъясняем собственно моральный опыт, а предполагаем некоторую трансцендентальную структуру, наделенную моральными свойствами. Эта структура в свою очередь натягивается на реальный опыт. Получается, что эмпиризм используется в целях построения онтологии. И уже онтология, как и раньше, определяет моральное.
Проблема онтологического обоснования
На этом можно закончить обзор примеров онтологического обоснования этики и еще раз проговорить, каким образом вывод оснований морали из метафизики, онтологии или антропологии задает проблему традиционного подхода. Эта проблема, говоря в общем, заключается в подвешивании статуса полученной морали: если мораль является необходимой с точки зрения устройства мира, то она становится излишней, если же она таковой не является, то она теряет силу.
Утверждая, что должное – это продолжение устройства бытия (ряда причин или идей), мы тем самым должны бы признать тождество реального и должного. Т.е. утверждать, что все, что реально, не противоречит законам бытия, а значит, является должным. Но это не так: некоторое состояние мы называем «злом» и не должным. Обоснованная или выведенная из свойств самой субстанции мораль должна быть неотвратимой или очевидной. Она бы направляла наши действия «помимо нашей воли» или – точнее – и была бы нашей волей. Будь мораль такова – мы не нуждались бы в морали (как не нуждаемся в ней для утоления голода или заботы о потомстве). Если же мораль не является очевидной и необходимой, значит, ее связь с проявлением субстанции не имеет смысла – она не достигла цели.
Важно обратить внимание, что проблема традиционного подхода, сводящего мораль к одному из аспектов закона или субстанции, не логическая, а практическая. Практически мораль требуется тогда, когда у нас нет разумной или природной необходимости, либо когда есть возможность действовать вне этой необходимости. Это очень хорошо проговаривает Кант, избавляя мораль от любых внешних причин. Но свободная мораль не может быть продолжением законов природы или свойств разума. Если быть моральным было бы тождественно тому, чтобы быть разумным, у нас не было бы отдельного морального опыта.
Проблема онтологического обоснования морали в том, что она не имеет практического смысла. Либо закон, к которому сводится мораль, настолько силен, что должен определять любые действия, в том числе и аморальные, и тогда теряет смысл различие морального и аморального. Либо он слаб, требует дополнительных мотивов для следования ему. Тогда уже нет смысла полагать его в качестве основания морали, но нужно исследовать все множество мотивов. Для того, чтобы добиться успеха в построении этики, нам, прежде всего, следует поставить вопрос об источнике долженствования, о том, с какой позиции моральный поступок становится обязательным. Нам следует предложить альтернативный подход к поиску источника долженствования. Это не должен быть путь от онтологии к практике.
Деконструкция морального
Классическая парадигма, конечно, подвергается критике. В контексте постмодернистской философии эту критику можно назвать «деконструкцией морали». Так же, как общая деконструкция, она заключается в раскрытии оснований моральных суждений, выявлении в них противоречий и их пересборке. Но постольку, поскольку традиционные основания морали представляют собой не что иное, как внеморальную онтологию, их деконструкция также работает в поле онтологии и игнорирует собственно моральное содержание. Как результат, такая критика не приводит к удовлетворительным итогам – она не предлагает альтернативу, способную избавить этику от зависимости перед решением вопроса об онтологии.
Критика морали через критику метафизики у Ницше
Первым примером деконструкции онтологического обоснования морали может служить рассуждение Ницше. Он демонстрирует нам, как моральные требования строятся на ошибочном метафизическом основании. Ошибка или ложь, лежащая в основе морали, – это разделение субъекта и его действий. Грубо говоря, утверждения вроде «ты должен поступать хорошо»» или «ты должен относиться правильно», предполагают, что твои действия могут быть подчинены чему-то, кроме выражения твоей личности.
Ложность разделения субъекта и действий Ницше проговаривает в известном примере со сверканием молнии [Ницше 1996: 431]. Так же как нет смысла разделять молнию и сверкание, ибо молния – это и есть сверкание, так нет и никакого смысла предполагать некоторого субъекта, который может на свой выбор действовать хорошо или плохо. Критика морали определяется критикой метафизики в принципе: дело не в том, что классические подходы упустили что-то в природе морали, дело в том, что они основывались на ошибочной метафизике. Изобретение морального субъекта, которому приписывается право выбирать способы собственного проявления, а также некоторые свойства и обязанности, представляет собой принципиальную проблему морали.
Теоретическая подмена (отделение человека от субъекта) в дальнейшем сопровождается «практической» или поведенческой подменой. Мораль искажает силу и волю к власти. Вместо прямого проявления силы на подчинение или истязание других, мораль направляет ее на самого субъекта в форме аскезы. Место подчинения и истязания других занимает самоподчинение и самоистязание [Ницше 1996: 463—464]. Аскеза по содержанию оказывается той же самой силой или волей, которая подчиняет других, ее отличие только в направлении.
В описании ложной природы морали Ницше близко подходит к критике логики онтологического обоснования. Он показывает, что мораль обоснована идеей необходимости или сущности высшего порядка. Однако, его критика направлена не столько на неверную трактовку морали, сколько на подрыв самой идеи метафизического основания. В конечном итоге, Ницше критикует не подчинение морального поведения трактовке воли в принципе, а указывает на ошибки в ней. Критика морали поэтому сводится к замене одного понимания природы субъекта другим. Грубо говоря, сводя все действия индивида только к проявлению силы, которую можно описать, определить ее свойства, Ницше заменяет один метафизический концепт другим.
Это хорошо видно в тех отрывках, где ложной морали слабых противопоставляется истинная мораль сильных. В «Генеалогии морали» мы находим описание такой «правильной морали» аристократов: «Их дело – инстинктивное созидание форм, штамповка форм; они суть самые подневольные, самые непредумышленные художники из когда-либо существовавших – там, где они появляются, возникает в скором времени нечто новое, творение власти, которое живет, части и функции которого разграничены и соотнесены, в котором вообще нет места тому, что не было бы предварительно „всмыслено“ в структуру целого» [Ницше 1996: 463]. Постольку, поскольку сила – это возможность подчинять или изобретать новые формы (устанавливать новый порядок), то истинная мораль – это мораль, в которой «добро» тождественно «властвующему», «знатному». (Интересно сравнить это представление с «героической моралью» у Макинтайра, содержание которой описывается социальными условиями обществ, в которых она существует).
Этот пример принципиален: он демонстрирует подмену морального онтологическим, т.е. замену понимания моральности действия его соответствием какому-то представлению о субъекте и его природе. Итогом ницшеанской критики морали становится именно смена онтологии, тогда как подчиненность морали сохраняется. Отвергая религиозную и общественную мораль из-за того, что она взывает к мнимым сущностями идеалам, Ницше в качестве альтернативы опять же предлагает подчинение морали некоторой природе. С нашей точки зрения критика Ницше оказывается недостаточно радикальной.
Мораль как исправление способа существования у Фуко
Продолжение и углубление подхода Ницше осуществляет Мишель Фуко. И, что интересно, для него направление воли на себя в форме аскезы – это не проблема и не искажение морали. Мы говорим тут о рассуждениях Фуко, представленных в «Истории сексуальности» и «Герменевтике субъекта», где он проводит анализ стоицизма и позднеантичной этики, осмысляя императив «заботы о себе».
Пример обоснования «заботы о себе» Фуко разбирает в тексте Сенеки. Оно начинается с «обзора мира», понимания собственной конечности или собственной малости. Именно конечность или малость человеческой жизни относительно мира является причиной, почему нам следует заботиться о себе или почему эта забота приобретает именно такие формы (например, исключает погоню за богатством) [Фуко 2007: 304—305]. Увидев мир целиком с его радостью и муками, мы можем принять его как благо и принять свое место в нем, и заняться собой. Моральная должность заботы о себе обосновывается принятием бесконечной открытости нашего существования [Фуко 2007: 311—312]. «Аскетика», о которой говорит Фуко, или способность управлять своим отношением и самим собой, должна помочь нам подготовиться к неопределенному будущему. Цель этой подготовки – «устоять на ногах» при любом исходе, в борьбе со случаем, с фортуной [Фуко 2007: 348—350]. В каком-то смысле Фуко обнаруживает тот факт (прочувствованный Ницше в его описании аскезы), что человек имеет способность направлять собственную волю и собственное существование, исправлять собственное я. Но он трактует эту способность вовсе не как обман, а, наоборот, как единственную чистую способность, не подчиненную ничему внешнему. В этом смысле позиция Фуко оказывается близка кантовскому представлению о разуме, который подчиняется только самому себе, и моральности как следованию свободному разуму.
Однако утверждая аскетику в качестве заботы о чистой способности существования, Фуко не дает ответа на вопрос о том, почему мы должны заботиться о реализации именно этой способности в первую очередь. Проходя в каком-то смысле дальше Ницше, он не утверждает позитивного содержания воли к власти, природы человека или самой жизни, стоящей за моральным решением. Способности управлять собой не придается значения финальной телеологии. Более того, Фуко показывает и социально-исторический контекст возникновения требования «заботы о себе» или управления собой. Управлять собой необходимо для того, чтобы быть достойным гражданином [Фуко 2004: 124]. В позднем стоицизме, который по преимуществу и интересует Фуко, этот мотив уходит. Итоговое внимание к заботе о себе не определяется никакой больше целью или ценностью, кроме решения индивида соотнести себя с самой способностью направлять волю. Вопрос о том, почему именно эта способность, а не социальные свойства или физиологические удовольствия становятся центром самоопределения, остается открытым.
Отказываясь от оснований или критериев, по которым мы должны признать заботу о себе самоцелью, Фуко приходит к основному ограничению, которое мы можем обнаружить в деконструкции морали: вне метафизических оснований, природы человека или цели его существования мы не можем объяснить этическое долженствование. Отсутствие телеологии предполагает, что забота о себе ничуть не лучше стремления получать постоянные физические удовольствия или повышать социальный статус. Нет никакого критерия, чтобы сказать, что следование себе лучше, чем подчинение природе или другим людям. Избегая того, чтобы подложить под выбор субъекта разного рода метафизические сущности, деконструкция этического приводит к утрате долженствования.
Этика модусов существования и паралич морального выбора
Утрата долженствования из-за отказа от твердых метафизических оснований – это проблема, прежде всего, даже не теоретическая, а практическая. Она парализует этический выбор. У Фуко это проявляется не самым явным образом, так как он все-таки делает выбор в пользу вполне конкретного способа существования, который признает моральным. Наиболее четко это видно в этике Делеза.
Делез именует свой подход «имманентной этикой», предполагая, что моральное поведение – это не следование некоторому внешнему (трансцендентному) закону, но выражение собственной имманентной природы. Однако прочтение этики как «следования собственной природе», также как и у Ницше, приводит к необходимости прояснения этой природы. И тут Делез оказывается в сложной ситуации: он не может просто утверждать тождество существования и воли к власти. Более того, для Делеза не может быть и единого ответа на вопрос об имманентном содержании существования, ведь вместо единого субъекта мы имеем множество модусов существования. Получается, что принятие этического решения предполагает выбор между множеством равноценных модусов, а этот выбор, строго говоря, невозможен. Утвердив некоторый критерий выбора, мы бы вывели один из модусов существования в привилегированное состояние, сделали бы его аналогом субъекта или природы.
В контексте множественности модусов этический выбор может описываться как борьба между мотивами или способами существования (модусами). «Таким образом, что же я имею в виду, когда говорю „Я стараюсь бросить курить“, даже если тот же самый Я продолжаю курить? Это просто означает, что мое сознание, интеллект занимает сторону и ассоциирует себя с конкретным мотивом. … Когда мы говорим про „Я“, мы просто отмечаем некоторый мотив, который в этот момент наиболее силен и властен» [Smith 2001: 128—129]. И далее: «Здесь движение души, как говорит Лейбниц, более напоминает маятник, чем баланс – и часто достаточно сильно раскачивающийся маятник. Вопрос о решении – это вопрос: „На какой стороне я остановлю свою душу? На какой временной склонности и восприятии я сделаю „решающую“ остановку?“ Принятие решения – это вопрос интеграции (используя математический термин) мгновенных восприятий и склонностей в „выдающиеся“ восприятия или „значимые“ склонности» [Smith 2001: 134]. Эта теоретическая перспектива уничтожает саму возможность этического вопрошания. Этика должна бы отвечать на вопрос о том, что мне выбрать, как мне действовать, но выбор между равноценными способами существования просто не имеет смысла: не может быть единого основания для их сравнения и оценки. Может ли модус решать, в какой другой модус ему перейти? Можно ли, существуя определенным способом, оценивать другие способы существования?
Делез все же пытается решить проблему этического выбора и построить этику, которая различала бы хорошие и плохие способы существования. Это различение должно происходить, исходя из отношения способа (модуса) существования к реализации способности к существованию. Модус существования оценивается исходя из того, насколько он способен реализоваться, дойти до предельного выражения способности действовать. Или, наоборот, насколько он блокирует способность действовать и превращается в «немощь». Эта оценка выражается в различных формулах: «всегда бывает только один критерий – экзистенциальная емкость, интенсификация жизни» [Делез Гватари 1998: 97], или этическая задача заключается в «расширении, интенсификации, возвышении возможностей, росте размеров, увеличении незаурядности» [Делез 1997: 130]. Имманентный модус существования, таким образом, должен оцениваться в соответствии с чисто интенсивным критерием способности к существованию. Но эта гипотеза остается проблематичной. Нам следует задать вопрос о том, каким образом, в качестве кого и с какой позиции можно оценивать эту интенсивность жизни или способность к действию.
Делез пробует ответить на этот вопрос через работу с текстом Спинозы, рассматривая «счастье» как способность к активному действию. В определении «счастья» мы можем увидеть следующее утверждение: «Человек – самый могущественный из конечных модусов – свободен, когда овладевает собственной способностью к действию, то есть, когда его conatus задается адекватными идеями, из которых следуют активные аффекты, объясняемые его [человека] сущностью. Свобода всегда связана с сущностью и с тем, что из нее вытекает, а не с волей и с тем, что ею управляет» [Делез 2001: 398]. Однако несложно вспомнить, что у Спинозы возможность выбрать или познать адекватную идею определяется познанием единого источника, из которого эти идеи происходят – субстанции. Если же мы отказываемся от возможности не только познать субстанцию, но вообще от сведения всего множества проявлений к единому основанию (которое и станет в конечном итоге законом или критерием для выбора), то таким образом сам этический выбор оказывается фикцией.
Проблема проекта имманентной этики напрямую связана с устройством онтологического обоснования морали. После деконструкции понятия природы (или сущности) этика потеряла силу долженствования – она не может больше ни на что опереться. Нет никаких разумных причин или оснований для того, чтобы воспринимать как должное реализацию одного из множества равноценных модусов существования. Отказавшись от подчинения морали сущности или природе, имманентная этика не предлагает никакого альтернативного источника должного и, таким образом, теряет возможность осуществления морального выбора.
Экстремальная этика события Бадью
Имманентная этика Делеза – это не единственный подход к построению этики в условиях онтологии множества или различия. Другой способ предлагает Ален Бадью. Он не пытается связать этику с внутренним содержанием существования или свойствами индивида. Вместо этого этика связывается с понятием бытия (события). Бадью называет «добром» или лучшим то, что соответствует событию, где событие – это чистое проявление бытия как такового или проявление истины. Человек, участвуя в событии, делает то, что Бадью называет «дать путь истине». «Бессмертие» или сущность человека утверждается в его возможности участия в истине, а «добро» – это именно утверждение истины, активное действие.
Бадью формулирует императив, который должен бы описывать следование бытию. Это императив перехода из одного способа существования к другому или от одного сущего к другому: «Делай все, что можешь, упорствуя в продлении того, что избыточно к твоему продлевающему упорствованию. Упорствуй в прерывании, охватывай в своем бытии то, что охватило и прорвало тебя» [Бадью 2006: 73]. Участие в событии, которое не определено ничем из существующего, но которое способно породить новое существующее – это и есть момент истины и момент вечности, в котором заключается собственно человеческое бытие. Бадью предлагает действовать, исходя из возможности ввязаться в событие, безотносительно к свойствам субъекта, которые присутствуют в его существовании.
Таким образом, предлагается обойти проблему отсутствия точки зрения: не множественное и различное сущее определяет моральность, а бытие. Участие в событии представляет собой добро всегда, независимо от субъекта. Однако предлагаемая концепция содержит иную проблему: Бадью должен предложить нам критерий, позволяющий определить, соотносятся ли наши действия с бытием или нет. Это своего рода «сверхтребование»: события должны оцениваться, причем заранее, до того как они случились. Индивид может поступить этично только в том случае, если он заранее определил событие, сумел увидеть его за действиями, связанными исключительно с выживанием, и сумел отличить его от искажения (то есть зла).
Из-за этого добро у Бадью экстремально и невозможно для любого (простого) человека в его обычной жизни. Примеры истины и добра – это примеры маргинальные или экстремальные – художника, ученого, политического активиста, влюбленного. Этика Бадью не предоставляет нам возможности оценивать собственные поступки – большинство из них происходит в обычной жизни и в логике обычной жизни. Эту проблему прекрасно иллюстрирует разобранный в «Этике» пример зла, а именно нацизм. Нацизм не является повторяющимся в повседневной жизни явлением, его сложно рассматривать как пример относящийся лично к моей жизни. Концентрируясь на экстремальных событиях, на тех случаях, когда участие в событии явно и бесспорно, Бадью фактически оставляет нас без этики: в том случае, когда непонятно направление события, у нас по-прежнему нет никакой точки зрения, с которой можно было бы судить о должном.
Этика события, которая балансирует между следованием сущности индивида и методологией выявления события (из ряда обычных явлений), приходит в тупик. Найти такую точку зрения, которая позволяла бы нам принимать этическое решение, не удается – само событие не является точкой, а его характеристики (в виде сущности или в виде процесса) даны только постфактум, в тот момент, когда решение уже состоялось.
Таким образом, этика Бадью подтверждает общую проблему деконструкции морали. Освободившись от метафизической или трансцендентной подмены, от подчинения морального общему устройству мира, она не в состоянии предложить основания морали. Критика и деконструкция традиционных, метафизических оснований морали не сопровождается деконструкцией самого отношения между моралью и онтологией. Поэтому, оказавшись без онтологических оснований, мы оказываемся и без этики. Концентрируясь на том, чем не может быть этика, мы в итоге упускаем и то, чем она могла бы быть.