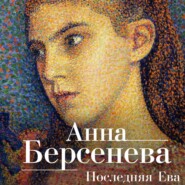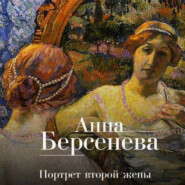По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Австрийские фрукты
Автор
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Охранник в камуфляже смотрел Тане не в глаза, а в переносицу. Обычный же дуболом, а таким штучкам обучен!
– Мне нисколько не надо, – зло бросила она.
– Девушка, сядьте обратно в машину. Это в ваших интересах.
Разговаривать с ним было бессмысленно, а бессмысленных разговоров Таня не вела никогда. Она села за руль и захлопнула дверцу. Прошла минута, три, пять… Наконец ворота открылись, из них вышли такие же дуболомы, как и тот, что дежурил на улице – точно Урфин Джюс из поленьев их понаделал! – выстроились в две шеренги, держа автоматы на изготовку. Из ворот величественно выплыл «Майбах». За ним появился «Гелендваген». Машины повернули на улицу и, мгновенно ускорившись, скрылись за поворотом. Дуболомы с автоматами ушли обратно во двор, ворота закрылись. Тот, который остановил уличное движение, махнул рукой. Движение возобновилось.
Все это выглядело такой дешевкой, что Таня глазам своим не верила. Даже в девяностые годы она такого здесь не видала, а сейчас, ей казалось, подобное представление уже невозможно просто потому, что никому не нужно.
Правда, в девяностые и не было на Соколе таких идиотских строений, которые она краем глаза видела сейчас, проезжая по улицам поселка. На Шишкина, где раньше стоял дом из розового туфа, высилось теперь нечто, напоминающее советский Дворец пионеров из красного кирпича. Еще один особняк, тоже новехонький, сверкал зеркальными окнами, как дорогой бордель.
После спектакля с автоматчиками Таня ожидала, что и на Сурикова увидит что-нибудь в этом духе. Но здесь все было то же.
Липы, безлиственные сейчас, но все равно густые. Зеленый штакетник, сквозь который виден двухэтажный дом, обшитый зеленым же тесом. Заснеженный двор. Окна с белыми наличниками. На крыше слуховое окошко, похожее на треугольный домик. В тринадцать лет она сидела на чердаке, смотрела через это окошко на улицу, засыпанную листьями лип, слушала, как стучат по крыше дождевые капли, и думала: пусть бы разрешили остаться, даже в дом бы не заходила, здесь бы на чердаке и жила, только б разрешили, только бы не выгнали!..
Таня вышла из машины, подошла к забору, просунула руку между штакетинами и отодвинула засов калитки. Прошла, увязая в снегу, по нерасчищенной дорожке к дому. Поднялась по ступенькам. Вспомнила, спустилась обратно. Попыталась сдвинуть тесовую доску справа от крыльца. Доска не поддалась. Нажала посильнее, и она легко, словно вспомнив ее руку, заскользила вправо. Таня достала ключи из открывшейся щели, задвинула доску обратно и поднялась на крыльцо снова.
Никогда здесь не бывало так тихо. Дом был деревянный, поэтому в нем все время что-то скрипело, шуршало, потрескивало. Под лестницей, ведущей на второй этаж, жил сверчок, как в книжке про Буратино. Книжку про Буратино Таня увидела здесь впервые, раньше только фильм смотрела.
В доме было холодно. Надо было пойти в комнатку, которую Веня называл котельной, и отрегулировать отопление. Но Таня не понимала, стоит ли ей это делать.
Дверь из прихожей в большую комнату была открыта. Да, ведь Веню увезли отсюда на «Скорой», и все осталось как было… На круглом столе лежали какие-то бумаги, стоял открытый ноутбук. Почему он не работал у себя в кабинете наверху? Уже не узнать. Хотя он же написал, что живет на Остоженке. То есть жил. Да, жил, жил! Сколько можно это повторять? Она рассердилась, что так себя заводит. Он жил в другом месте, сюда приезжал лишь время от времени. Поэтому все здесь выглядит так музейно, без знаков повседневности, кроме вот этих бумаг на столе.
Звуков в доме не было только до той минуты, пока Таня не сделала по нему первые шаги. А как только она вошла в комнату, сразу же начался переполох в стенах и половицах – что-то заскрипело, зашуршало, защелкало. Разве что сверчок не запел. Нет его здесь уже, наверное. А может, спит.
Она села к столу, сдвинула бумаги на край. Потом их рассмотрит. Если вообще станет смотреть. Непонятно ей, станет ли.
Веня так ошеломил ее своим письмом, что даже боль от его смерти как-то отошла. Это вообще был его способ – ошеломить так, чтобы отошли на второй план заботы, которые казались всеобъемлющими. Его смерть была как раз такой заботой, и как раз таким своим излюбленным способом он и на этот раз сумел ошеломить Таню.
Она достала из сумки и положила перед собой конверт с вензелями. Он был из отеля в Монте-Карло, вчера вечером разглядела. Вчера же прочитала и письмо, поэтому все ее сегодняшние действия выглядели глупо. Как будто приехала для того, чтобы именно здесь убедиться, что поняла это письмо правильно. А как его можно было понять неправильно? Веня всегда излагал свои мысли внятно, а в письме для пущей ясности еще и пронумеровал каждую.
В самом начале было краткое вступление: «Таня, нет сейчас возможности объясняться. Я перед тобой виноват, ты это понимаешь и знаешь, что это понимаю я. Но если ты читаешь это письмо, значит, мое предчувствие сбылось и меня нет. Таким образом, отпадает необходимость в несущественных объяснениях. К тому же коллега ждет, я должен поторопиться».
А после этих слов, холодных и кратких, шла уже нумерация.
«1. После первого инфаркта, который случился полтора года назад, я привел в порядок дела. Родственников, которым я обязан был бы оставить имущество, у меня нет. Квартиру на Остоженке я снимаю. Этот дом я завещал тебе. С предположением, что ты станешь в нем жить. Не знаю, как ты к этому отнесешься – жить здесь хлопотно, ты знаешь. Если не захочешь лишних хлопот, продай. Но меня утешала мысль, что ты оставишь его себе.
2. Составляя полтора года назад завещание, я не знал одного обстоятельства, которое сейчас является главным. Несколько месяцев назад выяснилось, что у меня есть сын. Это известие в духе индийского кино произвело на меня неожиданно сильное впечатление. Вероятно, дело в возрасте. На шестом десятке узнать, что у тебя имеется ребенок, – новость не из ординарных. Но этому неожиданно открывшемуся неординарному факту сопутствуют и другие неординарные же обстоятельства. Изложу их, чтобы ты представляла ситуацию в целом.
3. Отношения с его матерью у меня были краткими и с моей стороны непристойными. Не могу определить их иначе, поскольку не испытывал к ней никаких существенных чувств, и этого должно было бы быть для меня достаточно, чтобы не давать ей оснований думать, что она может испытывать существенные чувства ко мне».
Таня улыбнулась. Веня всегда был ужасно умный и логичный, но всегда же, несмотря на свой ум и логику, не понимал простых вещей. Как будто можно разрешить или запретить испытывать чувства! Ну, полюбила она его, наверное. И дело тут не в том, давал он ей для этого основания или просто с ней переспал. Дело в нем самом, какой он есть. Уж Тане ли не знать!
«4. Что после нашего расставания она родила, я действительно не знал. Но должен был предполагать, что это возможно, и, соответственно, принять меры, чтобы этого не произошло. Женщина она была как раз такого типа, который мне глубоко неприятен: без царя в голове, со склонностью к эффектным жестам и при этом с полной неспособностью к повседневным рутинным усилиям. Таким женщинам, полагаю, детей иметь не нужно. Но бессмысленно рассуждать о свершившемся факте.
5. Ребенка она воспитывала до пяти лет. Потом у нее случилась очередная любовь с предсказуемым финалом. Она снова была беременна и собиралась рожать, но передумала и сделала аборт на позднем сроке вне медицинского учреждения, после чего умерла от сепсиса. С родителями у нее никаких отношений не было. Забрать внука они отказались, и он попал в детдом».
Читая этот пункт, Таня слышала его голос. То есть она и по всему письму его слышала, но здесь особенно отчетливо. Слышала, как Веня старается говорить холодно и кратко, чтобы никто не заметил, что с ним при этом происходит.
Зря он, конечно, попытался проделать с ней этот свой фокус. Веня видел ее насквозь, но и она его тоже. В нем было много для нее непонятного, а того, что занимало его ум, она не понимала почти совсем, но сам он был ей понятен весь. Такая вот странность.
«6. Я прошу тебя его забрать. Это не требование – я ничего не могу требовать от тебя, да и ни от кого не могу, так сложилось. Это не условие получения наследства. Я прошу об этом тебя, потому что больше мне просить об этом некого. А быть мертвым, понимая, что мой сын брошен на произвол судьбы, будет для меня невыносимо. Я никогда не верил в бессмертие души, загробную жизнь и прочие подобные вещи, и сейчас не верю, и ничего этого для себя не жду. Но мне почему-то не все равно, что будет с ним после моей смерти. Такой парадокс».
И вчера, когда она читала это письмо впервые, и сейчас Таня почувствовала острую обиду из-за того, что он написал это только о каком-то неведомом ребенке. Ей хотелось, чтобы ему было не все равно, что будет с нею.
Но, конечно, глупо этого хотеть. Она взрослый человек, способный справиться с любыми обстоятельствами жизни, он это знает. Он и сам приложил усилие для того, чтобы она стала такая. Что-что, а прикладывать усилие он умел, и всегда правильно.
Она вздохнула и продолжила читать. Хотя вообще-то видела это письмо перед собой даже с закрытыми глазами, и не было у нее никакой нужды поверять его этими стенами. Да и ничем ей не нужно было его поверять.
«7. Не знаю, что ты решишь. На всякий случай вот сведения о нем. Зовут Александр Вениаминович Левертов. Фамилия и отчество мои, так как вчера я наконец получил документы об усыновлении. И тут этот бессмысленный приступ, который непонятно чем кончится. То есть теперь это тебе уже понятно. А имя его совпало с именем моего отца просто удивительным образом. Это та еврейская традиция, которая соблюдалась в нашей семье, – называть детей в память об умерших. Но его назвали так случайно. Если считать, что случайности бывают. Я думал, что на мне оборвались все традиции. Вернее, что я их оборвал в силу бессмысленного устройства своей жизни. Но вот как вышло. Я приложил все усилия, чтобы усыновление было оформлено максимально быстро. Но пока документы не были готовы, я не мог забрать Алика. Мне разрешали с ним видеться только в детдоме, и то нечасто. Таким образом я мало его знаю. Ему одиннадцать лет. Это переходный возраст или еще нет, понятия не имею. Большую часть своей жизни он провел в детдоме, и это чувствуется, хотя внешне заметно гораздо меньше, чем можно было ожидать. Никому, кроме тебя, я не решился бы предложить такого ребенка. Сомнительное для тебя преимущество, понимаю. Но обстоятельства, если иметь в виду его будущее, в связи с моей смертью складываются отчаянные.
8. На всякий случай я только что оформил документ, которым доверяю опеку над ребенком тебе. Если ты решишь этим воспользоваться, то Всеволод Решетов тебе поможет. Он грамотный юрист и порядочный человек. Передаст тебе это письмо в случае необходимости».
Вот она, необходимость.
Наверное, Вене не хватило бумаги, ведь он писал в больнице. Окончание письма, уже без нумерации обстоятельств, было написано на обороте последнего листа. Таня перевернула его и прочитала:
«Не знаю, должен ли я просить у тебя прощения. Судя по тому, как сложилась моя жизнь, надо только радоваться, что я поступил так, как поступил, и твоя жизнь пошла от моей отдельно. Но все-таки я хочу, чтобы ты знала: ни о чем я не жалею сейчас так сильно, как об этой отдельности. Мои чувства обострены труднообъяснимой, но отчетливой тревогой. И в тревоге этой я вспоминаю тебя той девочкой, которая кричала «он же живой», вцепившись в ствол автомата. Мне кажется, я помню это и сейчас, когда ты читаешь мое письмо, хотя такого не может быть, раз ты его читаешь.
Прости меня, Таня».
Она положила письмо в конверт. Все-таки хорошо, что перечитала его здесь. Вчера только просидела над ним без толку весь вечер, не думая ни о чем, а теперь мысли выстроились в объективном порядке, как железные опилки под воздействием магнита.
Разумеется, она переедет сюда. Веня слишком высокого мнения о ее чувствительности – уж как-нибудь не захлебнется она в потоке местных воспоминаний. Да и возня с отоплением, необходимость ремонтировать то крышу, то крыльцо и чисить двор от снега – все, что он назвал хлопотностью здешней жизни, – ей таковой не представляется. А хоть бы и представлялась – ребенку все равно лучше расти здесь, чем в панельной много-этажке на Петушках. Сокол и Петушки!.. Таня улыбнулась.
И тут же, как будто улыбка их отомкнула, слезы хлынули из ее глаз ручьями. Да, именно так – двумя широкими ручьями. Они и на стол капали, и в нос затекали, и в рот. Тане казалось, слезы не иссякнут никогда. Они лились и лились, и она не вытирала их, а стряхивала руками со щек.
Но иссякли, конечно. Таня шмыгнула носом, потом попыталась глубоко вдохнуть. Вчера ей весь день не удавалось это сделать, и ночью не удавалось, и сегодня с утра тоже. И вот удалось наконец.
Отдышавшись, она огляделась. Комната была пронизана неярким светом так, будто на все предметы упала прозрачная поблескивающая ткань. А просто, пока Таня плакала, солнце выглянуло из сплошного зимнего марева. Дары волхвов засверкали тем же тусклым золотом, каким сверкали они пятнадцать лет назад, когда Таня последний раз видела эту картину.
Она подошла к дрессуару. На его открытой полке стояли старые фотографии в рамках, те самые, которые она вспоминала вчера. Одна фотография была без рамки и выглядела новой. Таня взяла ее, чтобы рассмотреть получше.
Сходство было такое, что сердце ее, уж было успокоившееся, сжалось снова и в носу опять закололо. Еще бы известие о существовании этого ребенка не произвело на Веню сильного впечатления! Те же тонкие черты, и брови вразлет, и лоб высокий, и все это создает облик – то, как человек внешне явлен. Это Веня ей когда-то объяснял, что такое облик. Она тогда только-только поступила в колледж и была увлечена изучением макияжа. Надо сначала понять облик, говорил он. То, как сущность человека проявлена внешне. А потом уже макияж подбирать.
Если судить по облику, то сущность у этого мальчика в точности Венина. Но опыт ежедневного общения с людьми подсказывал Тане: сущность-то, может, и самая распрекрасная, а пока до нее доберешься, иной человек тебе весь мозг вынесет. Взгляд этого пацана как раз позволял предполагать, что так оно и может оказаться.
Ладно, что толку рассуждать о каких-то абстрактных вещах. И конкретных более чем достаточно.
Таня полистала сообщения в айфоне, нашла среди них нужное и позвонила его отправителю.
– Всеволод, здравствуйте, – сказала она. – Это Татьяна Алифанова. Вашего отчества не знаю, извините. Хочу с вами встретиться, желательно сегодня. Можем?
Видно, Всеволод Решетов ожидал ее звонка, потому что не удивился ни ему самому, ни тому, что она сразу перешла к делу.
– Да, Татьяна Калиновна, – ответил он. – Можем встретиться сегодня. Где и когда?
– Я приеду куда скажете.
– Мне нисколько не надо, – зло бросила она.
– Девушка, сядьте обратно в машину. Это в ваших интересах.
Разговаривать с ним было бессмысленно, а бессмысленных разговоров Таня не вела никогда. Она села за руль и захлопнула дверцу. Прошла минута, три, пять… Наконец ворота открылись, из них вышли такие же дуболомы, как и тот, что дежурил на улице – точно Урфин Джюс из поленьев их понаделал! – выстроились в две шеренги, держа автоматы на изготовку. Из ворот величественно выплыл «Майбах». За ним появился «Гелендваген». Машины повернули на улицу и, мгновенно ускорившись, скрылись за поворотом. Дуболомы с автоматами ушли обратно во двор, ворота закрылись. Тот, который остановил уличное движение, махнул рукой. Движение возобновилось.
Все это выглядело такой дешевкой, что Таня глазам своим не верила. Даже в девяностые годы она такого здесь не видала, а сейчас, ей казалось, подобное представление уже невозможно просто потому, что никому не нужно.
Правда, в девяностые и не было на Соколе таких идиотских строений, которые она краем глаза видела сейчас, проезжая по улицам поселка. На Шишкина, где раньше стоял дом из розового туфа, высилось теперь нечто, напоминающее советский Дворец пионеров из красного кирпича. Еще один особняк, тоже новехонький, сверкал зеркальными окнами, как дорогой бордель.
После спектакля с автоматчиками Таня ожидала, что и на Сурикова увидит что-нибудь в этом духе. Но здесь все было то же.
Липы, безлиственные сейчас, но все равно густые. Зеленый штакетник, сквозь который виден двухэтажный дом, обшитый зеленым же тесом. Заснеженный двор. Окна с белыми наличниками. На крыше слуховое окошко, похожее на треугольный домик. В тринадцать лет она сидела на чердаке, смотрела через это окошко на улицу, засыпанную листьями лип, слушала, как стучат по крыше дождевые капли, и думала: пусть бы разрешили остаться, даже в дом бы не заходила, здесь бы на чердаке и жила, только б разрешили, только бы не выгнали!..
Таня вышла из машины, подошла к забору, просунула руку между штакетинами и отодвинула засов калитки. Прошла, увязая в снегу, по нерасчищенной дорожке к дому. Поднялась по ступенькам. Вспомнила, спустилась обратно. Попыталась сдвинуть тесовую доску справа от крыльца. Доска не поддалась. Нажала посильнее, и она легко, словно вспомнив ее руку, заскользила вправо. Таня достала ключи из открывшейся щели, задвинула доску обратно и поднялась на крыльцо снова.
Никогда здесь не бывало так тихо. Дом был деревянный, поэтому в нем все время что-то скрипело, шуршало, потрескивало. Под лестницей, ведущей на второй этаж, жил сверчок, как в книжке про Буратино. Книжку про Буратино Таня увидела здесь впервые, раньше только фильм смотрела.
В доме было холодно. Надо было пойти в комнатку, которую Веня называл котельной, и отрегулировать отопление. Но Таня не понимала, стоит ли ей это делать.
Дверь из прихожей в большую комнату была открыта. Да, ведь Веню увезли отсюда на «Скорой», и все осталось как было… На круглом столе лежали какие-то бумаги, стоял открытый ноутбук. Почему он не работал у себя в кабинете наверху? Уже не узнать. Хотя он же написал, что живет на Остоженке. То есть жил. Да, жил, жил! Сколько можно это повторять? Она рассердилась, что так себя заводит. Он жил в другом месте, сюда приезжал лишь время от времени. Поэтому все здесь выглядит так музейно, без знаков повседневности, кроме вот этих бумаг на столе.
Звуков в доме не было только до той минуты, пока Таня не сделала по нему первые шаги. А как только она вошла в комнату, сразу же начался переполох в стенах и половицах – что-то заскрипело, зашуршало, защелкало. Разве что сверчок не запел. Нет его здесь уже, наверное. А может, спит.
Она села к столу, сдвинула бумаги на край. Потом их рассмотрит. Если вообще станет смотреть. Непонятно ей, станет ли.
Веня так ошеломил ее своим письмом, что даже боль от его смерти как-то отошла. Это вообще был его способ – ошеломить так, чтобы отошли на второй план заботы, которые казались всеобъемлющими. Его смерть была как раз такой заботой, и как раз таким своим излюбленным способом он и на этот раз сумел ошеломить Таню.
Она достала из сумки и положила перед собой конверт с вензелями. Он был из отеля в Монте-Карло, вчера вечером разглядела. Вчера же прочитала и письмо, поэтому все ее сегодняшние действия выглядели глупо. Как будто приехала для того, чтобы именно здесь убедиться, что поняла это письмо правильно. А как его можно было понять неправильно? Веня всегда излагал свои мысли внятно, а в письме для пущей ясности еще и пронумеровал каждую.
В самом начале было краткое вступление: «Таня, нет сейчас возможности объясняться. Я перед тобой виноват, ты это понимаешь и знаешь, что это понимаю я. Но если ты читаешь это письмо, значит, мое предчувствие сбылось и меня нет. Таким образом, отпадает необходимость в несущественных объяснениях. К тому же коллега ждет, я должен поторопиться».
А после этих слов, холодных и кратких, шла уже нумерация.
«1. После первого инфаркта, который случился полтора года назад, я привел в порядок дела. Родственников, которым я обязан был бы оставить имущество, у меня нет. Квартиру на Остоженке я снимаю. Этот дом я завещал тебе. С предположением, что ты станешь в нем жить. Не знаю, как ты к этому отнесешься – жить здесь хлопотно, ты знаешь. Если не захочешь лишних хлопот, продай. Но меня утешала мысль, что ты оставишь его себе.
2. Составляя полтора года назад завещание, я не знал одного обстоятельства, которое сейчас является главным. Несколько месяцев назад выяснилось, что у меня есть сын. Это известие в духе индийского кино произвело на меня неожиданно сильное впечатление. Вероятно, дело в возрасте. На шестом десятке узнать, что у тебя имеется ребенок, – новость не из ординарных. Но этому неожиданно открывшемуся неординарному факту сопутствуют и другие неординарные же обстоятельства. Изложу их, чтобы ты представляла ситуацию в целом.
3. Отношения с его матерью у меня были краткими и с моей стороны непристойными. Не могу определить их иначе, поскольку не испытывал к ней никаких существенных чувств, и этого должно было бы быть для меня достаточно, чтобы не давать ей оснований думать, что она может испытывать существенные чувства ко мне».
Таня улыбнулась. Веня всегда был ужасно умный и логичный, но всегда же, несмотря на свой ум и логику, не понимал простых вещей. Как будто можно разрешить или запретить испытывать чувства! Ну, полюбила она его, наверное. И дело тут не в том, давал он ей для этого основания или просто с ней переспал. Дело в нем самом, какой он есть. Уж Тане ли не знать!
«4. Что после нашего расставания она родила, я действительно не знал. Но должен был предполагать, что это возможно, и, соответственно, принять меры, чтобы этого не произошло. Женщина она была как раз такого типа, который мне глубоко неприятен: без царя в голове, со склонностью к эффектным жестам и при этом с полной неспособностью к повседневным рутинным усилиям. Таким женщинам, полагаю, детей иметь не нужно. Но бессмысленно рассуждать о свершившемся факте.
5. Ребенка она воспитывала до пяти лет. Потом у нее случилась очередная любовь с предсказуемым финалом. Она снова была беременна и собиралась рожать, но передумала и сделала аборт на позднем сроке вне медицинского учреждения, после чего умерла от сепсиса. С родителями у нее никаких отношений не было. Забрать внука они отказались, и он попал в детдом».
Читая этот пункт, Таня слышала его голос. То есть она и по всему письму его слышала, но здесь особенно отчетливо. Слышала, как Веня старается говорить холодно и кратко, чтобы никто не заметил, что с ним при этом происходит.
Зря он, конечно, попытался проделать с ней этот свой фокус. Веня видел ее насквозь, но и она его тоже. В нем было много для нее непонятного, а того, что занимало его ум, она не понимала почти совсем, но сам он был ей понятен весь. Такая вот странность.
«6. Я прошу тебя его забрать. Это не требование – я ничего не могу требовать от тебя, да и ни от кого не могу, так сложилось. Это не условие получения наследства. Я прошу об этом тебя, потому что больше мне просить об этом некого. А быть мертвым, понимая, что мой сын брошен на произвол судьбы, будет для меня невыносимо. Я никогда не верил в бессмертие души, загробную жизнь и прочие подобные вещи, и сейчас не верю, и ничего этого для себя не жду. Но мне почему-то не все равно, что будет с ним после моей смерти. Такой парадокс».
И вчера, когда она читала это письмо впервые, и сейчас Таня почувствовала острую обиду из-за того, что он написал это только о каком-то неведомом ребенке. Ей хотелось, чтобы ему было не все равно, что будет с нею.
Но, конечно, глупо этого хотеть. Она взрослый человек, способный справиться с любыми обстоятельствами жизни, он это знает. Он и сам приложил усилие для того, чтобы она стала такая. Что-что, а прикладывать усилие он умел, и всегда правильно.
Она вздохнула и продолжила читать. Хотя вообще-то видела это письмо перед собой даже с закрытыми глазами, и не было у нее никакой нужды поверять его этими стенами. Да и ничем ей не нужно было его поверять.
«7. Не знаю, что ты решишь. На всякий случай вот сведения о нем. Зовут Александр Вениаминович Левертов. Фамилия и отчество мои, так как вчера я наконец получил документы об усыновлении. И тут этот бессмысленный приступ, который непонятно чем кончится. То есть теперь это тебе уже понятно. А имя его совпало с именем моего отца просто удивительным образом. Это та еврейская традиция, которая соблюдалась в нашей семье, – называть детей в память об умерших. Но его назвали так случайно. Если считать, что случайности бывают. Я думал, что на мне оборвались все традиции. Вернее, что я их оборвал в силу бессмысленного устройства своей жизни. Но вот как вышло. Я приложил все усилия, чтобы усыновление было оформлено максимально быстро. Но пока документы не были готовы, я не мог забрать Алика. Мне разрешали с ним видеться только в детдоме, и то нечасто. Таким образом я мало его знаю. Ему одиннадцать лет. Это переходный возраст или еще нет, понятия не имею. Большую часть своей жизни он провел в детдоме, и это чувствуется, хотя внешне заметно гораздо меньше, чем можно было ожидать. Никому, кроме тебя, я не решился бы предложить такого ребенка. Сомнительное для тебя преимущество, понимаю. Но обстоятельства, если иметь в виду его будущее, в связи с моей смертью складываются отчаянные.
8. На всякий случай я только что оформил документ, которым доверяю опеку над ребенком тебе. Если ты решишь этим воспользоваться, то Всеволод Решетов тебе поможет. Он грамотный юрист и порядочный человек. Передаст тебе это письмо в случае необходимости».
Вот она, необходимость.
Наверное, Вене не хватило бумаги, ведь он писал в больнице. Окончание письма, уже без нумерации обстоятельств, было написано на обороте последнего листа. Таня перевернула его и прочитала:
«Не знаю, должен ли я просить у тебя прощения. Судя по тому, как сложилась моя жизнь, надо только радоваться, что я поступил так, как поступил, и твоя жизнь пошла от моей отдельно. Но все-таки я хочу, чтобы ты знала: ни о чем я не жалею сейчас так сильно, как об этой отдельности. Мои чувства обострены труднообъяснимой, но отчетливой тревогой. И в тревоге этой я вспоминаю тебя той девочкой, которая кричала «он же живой», вцепившись в ствол автомата. Мне кажется, я помню это и сейчас, когда ты читаешь мое письмо, хотя такого не может быть, раз ты его читаешь.
Прости меня, Таня».
Она положила письмо в конверт. Все-таки хорошо, что перечитала его здесь. Вчера только просидела над ним без толку весь вечер, не думая ни о чем, а теперь мысли выстроились в объективном порядке, как железные опилки под воздействием магнита.
Разумеется, она переедет сюда. Веня слишком высокого мнения о ее чувствительности – уж как-нибудь не захлебнется она в потоке местных воспоминаний. Да и возня с отоплением, необходимость ремонтировать то крышу, то крыльцо и чисить двор от снега – все, что он назвал хлопотностью здешней жизни, – ей таковой не представляется. А хоть бы и представлялась – ребенку все равно лучше расти здесь, чем в панельной много-этажке на Петушках. Сокол и Петушки!.. Таня улыбнулась.
И тут же, как будто улыбка их отомкнула, слезы хлынули из ее глаз ручьями. Да, именно так – двумя широкими ручьями. Они и на стол капали, и в нос затекали, и в рот. Тане казалось, слезы не иссякнут никогда. Они лились и лились, и она не вытирала их, а стряхивала руками со щек.
Но иссякли, конечно. Таня шмыгнула носом, потом попыталась глубоко вдохнуть. Вчера ей весь день не удавалось это сделать, и ночью не удавалось, и сегодня с утра тоже. И вот удалось наконец.
Отдышавшись, она огляделась. Комната была пронизана неярким светом так, будто на все предметы упала прозрачная поблескивающая ткань. А просто, пока Таня плакала, солнце выглянуло из сплошного зимнего марева. Дары волхвов засверкали тем же тусклым золотом, каким сверкали они пятнадцать лет назад, когда Таня последний раз видела эту картину.
Она подошла к дрессуару. На его открытой полке стояли старые фотографии в рамках, те самые, которые она вспоминала вчера. Одна фотография была без рамки и выглядела новой. Таня взяла ее, чтобы рассмотреть получше.
Сходство было такое, что сердце ее, уж было успокоившееся, сжалось снова и в носу опять закололо. Еще бы известие о существовании этого ребенка не произвело на Веню сильного впечатления! Те же тонкие черты, и брови вразлет, и лоб высокий, и все это создает облик – то, как человек внешне явлен. Это Веня ей когда-то объяснял, что такое облик. Она тогда только-только поступила в колледж и была увлечена изучением макияжа. Надо сначала понять облик, говорил он. То, как сущность человека проявлена внешне. А потом уже макияж подбирать.
Если судить по облику, то сущность у этого мальчика в точности Венина. Но опыт ежедневного общения с людьми подсказывал Тане: сущность-то, может, и самая распрекрасная, а пока до нее доберешься, иной человек тебе весь мозг вынесет. Взгляд этого пацана как раз позволял предполагать, что так оно и может оказаться.
Ладно, что толку рассуждать о каких-то абстрактных вещах. И конкретных более чем достаточно.
Таня полистала сообщения в айфоне, нашла среди них нужное и позвонила его отправителю.
– Всеволод, здравствуйте, – сказала она. – Это Татьяна Алифанова. Вашего отчества не знаю, извините. Хочу с вами встретиться, желательно сегодня. Можем?
Видно, Всеволод Решетов ожидал ее звонка, потому что не удивился ни ему самому, ни тому, что она сразу перешла к делу.
– Да, Татьяна Калиновна, – ответил он. – Можем встретиться сегодня. Где и когда?
– Я приеду куда скажете.