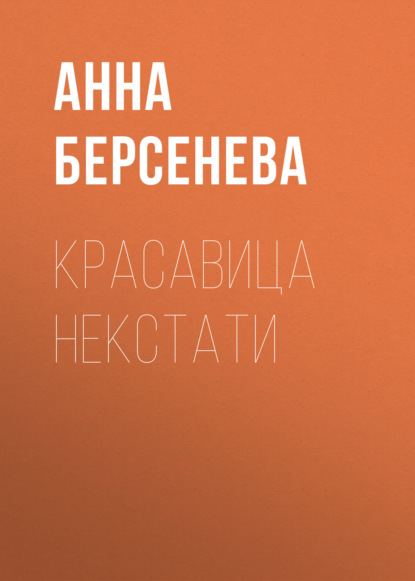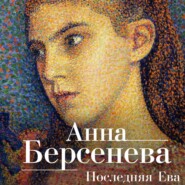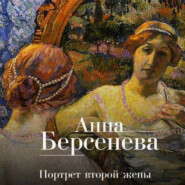По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красавица некстати
Автор
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы посидите немного, – сказала она. – Я картошку поджарю. Я быстро!
И опять он не стал отнекиваться, говорить, что ей не стоит беспокоиться и что он обойдется чаем. Он молча смотрел на Веру своим всезнающим взглядом. Она отвела глаза. Ее дрожь пробирала, когда она встречала его взгляд, и она не понимала природу этой дрожи.
Она вскочила, побежала в кухню. К счастью, картошка была уже начищена: Вера собиралась поджарить ее к маминому приезду и начистила заранее. Были еще остатки зимних заготовок – огурцы, которые мама солила вперемешку с помидорами, салат из кабачков и болгарского перца; все со своего огорода. Была даже вареная колбаса. В общем, было чем накормить человека.
Вера помнила, как соседка, старушка Анна Ивановна, не раз говорила ей:
– Из приличного дома, Верочка, никто еще не уходил голодным. Если нет совсем ничего, свари хотя бы гречневую кашу, заправь жареным луком и накорми гостя.
Когда Вера была маленькая, ей странно было слышать такое – через еду – определение приличного дома, да еще от такой интеллигентной старушки «из бывших», как Анна Ивановна.
Все у Анны Ивановны в квартире было не такое, как у других, в том числе и у Ломоносовых. Почти невозможно было объяснить, что именно было не так, но отличие чувствовалось сразу. Оно было во всем – и в том, что Анна Ивановна, если Вера забегала к ней даже на минутку после школы, всегда оставляла ее обедать и подавала самую простую еду, ту же гречневую кашу, на тарелках от разрозненного кузнецовского сервиза, а если при этом заходили другие соседи, то угощала и их, и ставила отдельную солонку возле каждого блюда. И склянки с лекарствами стояли у нее на маленьком посеребренном подносе, про который Вера знала, что он когда-то предназначался для визитных карточек. Вера не видела визитных карточек никогда в жизни и даже не представляла, как они выглядят, поэтому подносик вызывал у нее особенное почтение.
И еще много подобных мелочей было в маленькой квартирке Анны Ивановны, и все они не были выставлены напоказ, как выставлен был хрусталь в квартире Вериной одноклассницы Маринки Волковчук. У Анны Ивановны все необыкновенные предметы участвовали в жизни, вот в чем было дело, и жизнь ее была немыслима без их правильной простоты. В деревянной коробочке для пасьянсных карт лежали пуговицы, в спичечницу от письменного прибора ставились квитанции за квартиру, в старинном резном навесном шкафчике хранились баночки с пряностями, которые были куплены еще до революции в лавке колониальных товаров, но до сих пор не утратили запаха…
Обычная, ежедневная, небогатая жизнь Анны Ивановны вся состояла из одухотворенных вещей; это и называлось приличным домом. Только теперь, торопливо нарезая картошку, чтобы накормить позднего гостя, Вера поняла, что это значит.
Она вообще с каким-то испуганным удивлением поняла, что с ней что-то произошло за те несколько минут, которые прошли с его появления. Повзрослела она, вот что! Смутная ее тревога совершенно развеялась, мысли о себе, то есть о собственном неясном и в неясности своей мучительном состоянии, улетучились, как и не было их… Почему это вдруг стало так, Вера не понимала. Но то, что это каким-то образом связано с Алексеем Гайдамаком – с его суровым взглядом, с волчьей неустроенностью, сквозившей в каждом его движении, даже с нервным очерком скул, – это она знала точно.
Картошку Вера поджарила быстро. Она вообще все делала быстро, работа горела у нее в руках; мама всегда хвалила ее за это.
– Сильно проголодались? – сказала она, внося большую сковороду с картошкой в столовую. – Сейчас соленья принесу. И будем ужинать!
Когда Вера накрывала на стол, руки у нее вздрагивали. И все внутри вздрагивало, когда она смотрела в глаза Гайдамака, и она отводила взгляд так поспешно, будто он был не человек, а какая-то необъяснимая, волнующая, опасная сущность.
Он ел не то чтобы торопливо, но так, что сразу было понятно, как сильно он голоден. Голод проник в него так же глубоко, как неустроенность, – в самые кости проник, вот как.
Вера ела вместе с ним, но больше из вежливости: не кормить же человека отдельно, специально, будто зверя какого. Вообще же аппетита у нее не было совсем.
Доев картошку и колбасу, Гайдамак дочиста вытер тарелку хлебной коркой и корку тоже доел.
– Спасибо, – сказал он.
Неловкое молчание повисло в комнате. То есть это, наверное, только Вере было неловко, а он молчал как дышал. Ему естественнее было молчать, чем болтать о каких-нибудь незначащих вещах. Вера никогда не видела человека, который был бы так глубоко погружен в такое живое молчание.
– Вы… Вам, наверное, поздно уже сегодня, – сказала она. – Вы можете у нас переночевать.
– Спасибо, – повторил он. И неожиданно объяснил: – Идти-то мне некуда.
– Можете не только сегодня! – поспешно добавила Вера. – Сколько надо, столько и живите. Мама рада будет.
– Нисколько не надо, – сказал он. – Переночую да пойду. От чего Игнат Михалыч помер?
– Так, – помолчав, ответила Вера. – От жизни.
Это было правдой. Ей в самом деле казалось, что папа умер от жизни – от всей ее тяжести, которая была на его веку слишком долгой и наконец стала непомерной.
– Но вообще-то от легочного кровотечения, – добавила она. – У него же в легких с войны осколок остался.
– Понятно. – Гайдамак встал. – Постелешь мне где-нибудь?
– Да, – кивнула Вера. – Здесь и постелю, на диване.
– Я пока в саду твоем посижу. Чисто, хорошо… Как и не было ничего.
Вера не совсем поняла, что он имеет в виду, но переспрашивать не стала. Гайдамак спустился в палисадник по папиной лестнице. Пока Вера стелила ему на диване, то видела, как он курит, сидя на лавочке. И когда он успел разглядеть, чисто в палисаднике или не очень? Взгляд у него был невидящий.
Он курил одну «беломорину» за другой, огонек его папиросы неугасающе тлел в темноте, и Вера не решалась сказать ему, что постель готова. Ей казалось, этим она помешает той суровой и неустроенной жизни, которая составляла самую его сущность.
Но стрелка на часах миновала полночь, и она решилась его потревожить.
Вера открыла дверь эркера и спустилась в палисадник.
– Может, ляжете? – робко спросила она. – Вам постелено.
– Ты ложись, если хочешь, – не оборачиваясь, ответил Гайдамак.
– Да я не хочу, – пожала плечами Вера.
Плечи у нее вздрогнули – май все-таки еще не лето, дневное тепло было неустойчивым, а вечером становилось совсем зябко.
Недавно зацвела сирень, запах ее был таким же неспокойным, как почти невидимый в темноте взгляд и хорошо слышимый в ночной тишине хрипловатый голос Гайдамака.
– Посиди тогда со мной, – попросил он. – Расскажи про отца.
– Про все трудно рассказать, – сказала Вера, садясь рядом с ним на скамейку.
Она не думала, что придется сидеть на улице, поэтому даже платок на плечи не набросила, и ночной холод пронизывал ее теперь насквозь.
– Не сидел он больше после войны? – спросил Гайдамак.
– Нет. Говорил, что ему повезло.
Вера очень хорошо помнила, как папа однажды сказал об этом – что ему просто повезло не стать после войны повторником. Так же повезло, как не погибнуть при форсировании какой-то белорусской реки – может, той самой Прони? – когда от всей роты штрафбата осталось тринадцать человек. После той переправы его перевели из штрафников в обычные понтонеры, а вскоре вернули офицерское звание, и даже довоенные награды вернули, добавив к наградам военным.
Но после войны посадили почти всех, кого в войну по необходимости выпустили, и никакие награды никому не помогли. Папе просто повезло, он это знал. И Вера знала тоже, хотя была совсем еще невзрослая, когда папа об этом рассказывал, да и рассказывал он об этом очень скупо. Но она впитывала все, что он говорил, как земля впитывает дождь, и все, что он говорил, запоминала накрепко.
– Хоть в чем справедливость вышла, – сказал Гайдамак. – Я, помню, мальцом не понимал, на фронте-то, за что такого человека, как Игнат Михалыч, посадить могли. Потом понял.
– Когда потом?
– Когда глаза на жизнь открыл. Ну, а когда самого посадили, тогда уж и вовсе. На своей-то шкуре все лучше понимается.
– А за что вас посадили? – спросила Вера.
И смутилась: из папиных же рассказов она усвоила, что такой вопрос задавать нельзя.
Но Гайдамак ее вопросу не удивился.
И опять он не стал отнекиваться, говорить, что ей не стоит беспокоиться и что он обойдется чаем. Он молча смотрел на Веру своим всезнающим взглядом. Она отвела глаза. Ее дрожь пробирала, когда она встречала его взгляд, и она не понимала природу этой дрожи.
Она вскочила, побежала в кухню. К счастью, картошка была уже начищена: Вера собиралась поджарить ее к маминому приезду и начистила заранее. Были еще остатки зимних заготовок – огурцы, которые мама солила вперемешку с помидорами, салат из кабачков и болгарского перца; все со своего огорода. Была даже вареная колбаса. В общем, было чем накормить человека.
Вера помнила, как соседка, старушка Анна Ивановна, не раз говорила ей:
– Из приличного дома, Верочка, никто еще не уходил голодным. Если нет совсем ничего, свари хотя бы гречневую кашу, заправь жареным луком и накорми гостя.
Когда Вера была маленькая, ей странно было слышать такое – через еду – определение приличного дома, да еще от такой интеллигентной старушки «из бывших», как Анна Ивановна.
Все у Анны Ивановны в квартире было не такое, как у других, в том числе и у Ломоносовых. Почти невозможно было объяснить, что именно было не так, но отличие чувствовалось сразу. Оно было во всем – и в том, что Анна Ивановна, если Вера забегала к ней даже на минутку после школы, всегда оставляла ее обедать и подавала самую простую еду, ту же гречневую кашу, на тарелках от разрозненного кузнецовского сервиза, а если при этом заходили другие соседи, то угощала и их, и ставила отдельную солонку возле каждого блюда. И склянки с лекарствами стояли у нее на маленьком посеребренном подносе, про который Вера знала, что он когда-то предназначался для визитных карточек. Вера не видела визитных карточек никогда в жизни и даже не представляла, как они выглядят, поэтому подносик вызывал у нее особенное почтение.
И еще много подобных мелочей было в маленькой квартирке Анны Ивановны, и все они не были выставлены напоказ, как выставлен был хрусталь в квартире Вериной одноклассницы Маринки Волковчук. У Анны Ивановны все необыкновенные предметы участвовали в жизни, вот в чем было дело, и жизнь ее была немыслима без их правильной простоты. В деревянной коробочке для пасьянсных карт лежали пуговицы, в спичечницу от письменного прибора ставились квитанции за квартиру, в старинном резном навесном шкафчике хранились баночки с пряностями, которые были куплены еще до революции в лавке колониальных товаров, но до сих пор не утратили запаха…
Обычная, ежедневная, небогатая жизнь Анны Ивановны вся состояла из одухотворенных вещей; это и называлось приличным домом. Только теперь, торопливо нарезая картошку, чтобы накормить позднего гостя, Вера поняла, что это значит.
Она вообще с каким-то испуганным удивлением поняла, что с ней что-то произошло за те несколько минут, которые прошли с его появления. Повзрослела она, вот что! Смутная ее тревога совершенно развеялась, мысли о себе, то есть о собственном неясном и в неясности своей мучительном состоянии, улетучились, как и не было их… Почему это вдруг стало так, Вера не понимала. Но то, что это каким-то образом связано с Алексеем Гайдамаком – с его суровым взглядом, с волчьей неустроенностью, сквозившей в каждом его движении, даже с нервным очерком скул, – это она знала точно.
Картошку Вера поджарила быстро. Она вообще все делала быстро, работа горела у нее в руках; мама всегда хвалила ее за это.
– Сильно проголодались? – сказала она, внося большую сковороду с картошкой в столовую. – Сейчас соленья принесу. И будем ужинать!
Когда Вера накрывала на стол, руки у нее вздрагивали. И все внутри вздрагивало, когда она смотрела в глаза Гайдамака, и она отводила взгляд так поспешно, будто он был не человек, а какая-то необъяснимая, волнующая, опасная сущность.
Он ел не то чтобы торопливо, но так, что сразу было понятно, как сильно он голоден. Голод проник в него так же глубоко, как неустроенность, – в самые кости проник, вот как.
Вера ела вместе с ним, но больше из вежливости: не кормить же человека отдельно, специально, будто зверя какого. Вообще же аппетита у нее не было совсем.
Доев картошку и колбасу, Гайдамак дочиста вытер тарелку хлебной коркой и корку тоже доел.
– Спасибо, – сказал он.
Неловкое молчание повисло в комнате. То есть это, наверное, только Вере было неловко, а он молчал как дышал. Ему естественнее было молчать, чем болтать о каких-нибудь незначащих вещах. Вера никогда не видела человека, который был бы так глубоко погружен в такое живое молчание.
– Вы… Вам, наверное, поздно уже сегодня, – сказала она. – Вы можете у нас переночевать.
– Спасибо, – повторил он. И неожиданно объяснил: – Идти-то мне некуда.
– Можете не только сегодня! – поспешно добавила Вера. – Сколько надо, столько и живите. Мама рада будет.
– Нисколько не надо, – сказал он. – Переночую да пойду. От чего Игнат Михалыч помер?
– Так, – помолчав, ответила Вера. – От жизни.
Это было правдой. Ей в самом деле казалось, что папа умер от жизни – от всей ее тяжести, которая была на его веку слишком долгой и наконец стала непомерной.
– Но вообще-то от легочного кровотечения, – добавила она. – У него же в легких с войны осколок остался.
– Понятно. – Гайдамак встал. – Постелешь мне где-нибудь?
– Да, – кивнула Вера. – Здесь и постелю, на диване.
– Я пока в саду твоем посижу. Чисто, хорошо… Как и не было ничего.
Вера не совсем поняла, что он имеет в виду, но переспрашивать не стала. Гайдамак спустился в палисадник по папиной лестнице. Пока Вера стелила ему на диване, то видела, как он курит, сидя на лавочке. И когда он успел разглядеть, чисто в палисаднике или не очень? Взгляд у него был невидящий.
Он курил одну «беломорину» за другой, огонек его папиросы неугасающе тлел в темноте, и Вера не решалась сказать ему, что постель готова. Ей казалось, этим она помешает той суровой и неустроенной жизни, которая составляла самую его сущность.
Но стрелка на часах миновала полночь, и она решилась его потревожить.
Вера открыла дверь эркера и спустилась в палисадник.
– Может, ляжете? – робко спросила она. – Вам постелено.
– Ты ложись, если хочешь, – не оборачиваясь, ответил Гайдамак.
– Да я не хочу, – пожала плечами Вера.
Плечи у нее вздрогнули – май все-таки еще не лето, дневное тепло было неустойчивым, а вечером становилось совсем зябко.
Недавно зацвела сирень, запах ее был таким же неспокойным, как почти невидимый в темноте взгляд и хорошо слышимый в ночной тишине хрипловатый голос Гайдамака.
– Посиди тогда со мной, – попросил он. – Расскажи про отца.
– Про все трудно рассказать, – сказала Вера, садясь рядом с ним на скамейку.
Она не думала, что придется сидеть на улице, поэтому даже платок на плечи не набросила, и ночной холод пронизывал ее теперь насквозь.
– Не сидел он больше после войны? – спросил Гайдамак.
– Нет. Говорил, что ему повезло.
Вера очень хорошо помнила, как папа однажды сказал об этом – что ему просто повезло не стать после войны повторником. Так же повезло, как не погибнуть при форсировании какой-то белорусской реки – может, той самой Прони? – когда от всей роты штрафбата осталось тринадцать человек. После той переправы его перевели из штрафников в обычные понтонеры, а вскоре вернули офицерское звание, и даже довоенные награды вернули, добавив к наградам военным.
Но после войны посадили почти всех, кого в войну по необходимости выпустили, и никакие награды никому не помогли. Папе просто повезло, он это знал. И Вера знала тоже, хотя была совсем еще невзрослая, когда папа об этом рассказывал, да и рассказывал он об этом очень скупо. Но она впитывала все, что он говорил, как земля впитывает дождь, и все, что он говорил, запоминала накрепко.
– Хоть в чем справедливость вышла, – сказал Гайдамак. – Я, помню, мальцом не понимал, на фронте-то, за что такого человека, как Игнат Михалыч, посадить могли. Потом понял.
– Когда потом?
– Когда глаза на жизнь открыл. Ну, а когда самого посадили, тогда уж и вовсе. На своей-то шкуре все лучше понимается.
– А за что вас посадили? – спросила Вера.
И смутилась: из папиных же рассказов она усвоила, что такой вопрос задавать нельзя.
Но Гайдамак ее вопросу не удивился.