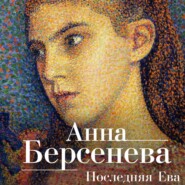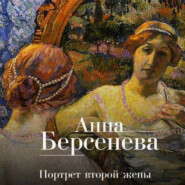По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Слабости сильной женщины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как хочешь, Котя, – повторила она. – Да и вообще, какая разница, когда мы распишемся?
– Конечно! – согласился Костя. – Но ты правда не обиделась на меня, Лерушка?
– Правда, правда, – заверила Лера. – Улитки так улитки.
Может быть, из-за этих улиток, как ни странно, она и не могла привыкнуть к Косте. Во всем остальном он был словно создан для того чтобы к нему привыкнуть, как к восходу солнца. Но его увлеченность чем-то неизвестным, немного смешным и трогательным – именно такими представлялись Лере улитки – накладывала особый отпечаток на его характер, манеру говорить, смотреть, слушать. К этому невозможно было привыкнуть, в этом он был не такой, как все, – и Лера даже благодарна была склизким существам, которые так увлекали его.
А то, что ей довольно много времени приходилось проводить без Кости, неожиданно оказалось благотворным для нее самой. Не дожидаясь, пока лекции по итальянскому Возрождению начнутся по программе, Лера сама пришла в семинар профессора Ратманова. Тот обрадовался, увидев ее:
– Что, Валерия Викторовна, одолело вас нетерпенье? Уважаю ваш порыв и надеюсь, он не пропадет впустую.
Так Лера начала всерьез заниматься итальянцами, и тема выбралась сама собою: Тинторетто и Венецианское государство. Она и итальянский успела изучить за какой-нибудь год – в добавление к своему французскому, отличному после школы с уклоном, и сносному университетскому английскому.
А поженились они ровно через два года, как и сказал Костя, – в начале третьего курса.
Костины родители, наконец приехавшие из Калуги познакомиться с новой родней, оказались простыми и очень приятными людьми – хотя совсем другими, чем представляла их себе Лера.
Даже удивительно, как у такого яркого, громогласного и шумного человека, как прораб Иван Егорыч Веденеев, мог быть такой тихий и мягкий мальчик, как Костя.
– Эх, сватья! – гремел Иван Егорыч, выпив немного водки за знакомство. – Вот увидел я ваш дом, и рад за Котьку, ей-богу рад! Он же у нас такой парень – мухи не обидит, а его всякий обидеть может. Боялись мы с матерью за него, что и говорить – Москва же, да еще общежитие это, какие там нравы, известно. А тут у вас как у Христа за пазухой, как нам не радоваться!
Костя краснел, пытался остановить отца:
– Перестань, папа, ну при чем здесь общежитие! Что Надежда Сергеевна подумает…
– А чего ей думать? – удивлялся Иван Егорыч. – Ты ж не из-за квартиры, разве непонятно? Ты ж из-за Лерочки, красавицы такой!
И он тут же оборачивался к невестке, которая явно вызывала у него не меньшее восхищение, чем сватья и спокойный, уютный дом.
Но, несмотря на разницу темпераментов, взгляд у Ивана Егорыча был такой же бесхитростный и ясный, как у сына. И мама у Кости была тихая, неговорливая. Сидела, пригубливая водку, то и дело поправляя тщательно уложенные в парикмахерской волосы, и кивала, соглашаясь со всем, что говорили муж, и сватья, и невестка.
Свадьбу праздновали дома: не хотелось общепита, заказного веселья. Да и где же было праздновать Леркину свадьбу, как не в любимом, неповторимом дворе, к которому прикипела ее душа!
– Споешь, Митя? – спросила Лера, сообщая Мите Гладышеву день своей свадьбы. – Споешь на свадьбе у меня?
Она любила, когда Митя пел, да и все у них это любили. Он никогда специально не занимался вокалом, но у него был волшебный голос – за каждым словом, за каждым гитарным аккордом чувствовалось гораздо больше, чем только звучало…
– Спою, – ответил Митя. – Спою на твоей свадьбе, боевая подруга, буду петь, пока не охрипну!
И он пел, и играл на гитаре – сначала у Леры дома, а потом, уже в темноте, на осеннем бульваре посредине Неглинной, сидя на спинке скамейки и то и дело прихлебывая портвейн из стоящей на асфальте бутылки.
Пел все, что просила Лера: про соловья на углу, на Греческой, про пароход белый-беленький, дым над красной трубой, про то, как до полуночи мы украдкою утешалися речью сладкою…
И, конечно, ее любимую – про Кейптаунский порт. Лера и сама не понимала, почему так будоражат ее сердце незамысловатые слова про «Жанетту» с какао на борту и алую морскую кровь. Но когда Митя пел:
И больше не войдут в таверенный уют
Четырнадцать французских моряков…
Лежат убитые, в песок зарытые,
Крестами кортики в груди торчат… —
когда он пел, ей всегда хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Или просто он так умел спеть об этих жестоких страстях?
– А теперь про снежиночку с пальто, а, Мить? – попросила Лера, когда все песни были уже перепеты – хотя, правда, Митя неизвестно откуда знал их такое множество, что и в самом деле мог бы петь до полной хрипоты.
– Про снежиночку – не буду, – неожиданно ответил он.
– Почему? – удивилась Лера – она так любила эту песню!
– Не хочу.
И ничего больше не стал объяснять, но Лера тут же перестала просить. Митя делал только то, что хотел, и никто не мог его заставить – ей ли было этого не знать!..
Они напелись, насмеялись – а многие и напились – до одурения. Лера так устала перед своей первой брачной ночью, что без сил упала на диван.
– Ох, Костя, ну и повеселились! – выдохнула она. – Правда, хорошо было?
– Отлично, – согласился он. – Хорошие у тебя друзья.
– Ну, они старались сегодня. Даже Гоша набрался только к самому финишу, держал себя в руках.
– У Мити голос как у Высоцкого, – вдруг сказал Костя.
– Да ты что! – удивилась Лера. – С чего ты взял? Ничего общего: у Высоцкого хриплый голос, а у Мити баритон, и очень мелодичный. Совсем не похоже!
– Дело не в этом – мелодичный или хриплый, – не согласился Костя, но уточнять, что он имеет в виду, не стал.
А Лера так устала, что ей вообще было не до этого. Кроме того, хоть она и не впервые оставалась с Костей наедине, но так надоело за эти два года вечно куда-то торопиться, вечно от кого-то скрываться неизвестно почему, что она просто радовалась своей первой брачной ночи, и бесконечным ночам, которые будут потом.
Так началась ее семейная жизнь, которая и продолжалась теперь, октябрьским дождливым вечером, когда муж Костя пришел из Ленинки и ужинал на кухне, а жена Лера расспрашивала его про библиотечный буфет – для самоуспокоения.
Лера слушала мужа, улыбалась, чувствовала, как одолевает ее усталость, как сами собою слипаются ресницы, – но сквозь усталость, сквозь Костин голос и подступающий сон пробивался неотвратимый вопрос: как же они будут жить дальше?
Она так и уснула, чувствуя рядом Костино тихое дыхание – и не найдя ответа.
Глава 5
Мамино лекарство – первый звоночек, это Лера поняла сразу. Она кожей чувствовала, что жизнь скоро переменится совершенно; это не могло быть иначе. Интуиции ей всегда было не занимать – и Лера ждала перемен.
Да и как можно было их не предвидеть – после недавних августовских дней, которые так взбудоражили всю страну, и особенно Москву!
Лето этого года они с Костей, как обычно, проводили в Калуге – вернее, под Калугой, где у старших Веденеевых был в деревне домик. Вообще-то Лера любила деревенскую жизнь еще со времен Студенова, но заготовка запасов на зиму надоела ей до чертиков. Она просто не привыкла к тому, что это можно делать в таких масштабах – в Москве-то они с мамой питались из магазина, – и теперь просто изнывала от бесконечного консервирования, засолки и засушки.
Правда, свекровь не настаивала, чтобы этим занималась еще и Лерочка, но ведь самой неудобно сидеть с книжкой или гулять по окрестностям, когда вся семья собирает, варит, закручивает, да еще приговаривает: это деткам в Москву, на зиму!
В общем, Лера вздохнула с облегчением, когда, оставив Костю родителям в качестве заложника, смылась в середине августа в Москву, где очень кстати намечалась конференция по Данте в Библиотеке иностранной литературы.
Она вдруг почувствовала мало кем ценимую прелесть летнего пустого города: его пыли, сухой листвы, плавящегося асфальта и собственного легкого одиночества, – всего того, что пропускалось почти всеми москвичами, сбегавшими на это время за город.
Во дворе было пусто: большинство соседей тоже разъехались по дачам.
– Конечно! – согласился Костя. – Но ты правда не обиделась на меня, Лерушка?
– Правда, правда, – заверила Лера. – Улитки так улитки.
Может быть, из-за этих улиток, как ни странно, она и не могла привыкнуть к Косте. Во всем остальном он был словно создан для того чтобы к нему привыкнуть, как к восходу солнца. Но его увлеченность чем-то неизвестным, немного смешным и трогательным – именно такими представлялись Лере улитки – накладывала особый отпечаток на его характер, манеру говорить, смотреть, слушать. К этому невозможно было привыкнуть, в этом он был не такой, как все, – и Лера даже благодарна была склизким существам, которые так увлекали его.
А то, что ей довольно много времени приходилось проводить без Кости, неожиданно оказалось благотворным для нее самой. Не дожидаясь, пока лекции по итальянскому Возрождению начнутся по программе, Лера сама пришла в семинар профессора Ратманова. Тот обрадовался, увидев ее:
– Что, Валерия Викторовна, одолело вас нетерпенье? Уважаю ваш порыв и надеюсь, он не пропадет впустую.
Так Лера начала всерьез заниматься итальянцами, и тема выбралась сама собою: Тинторетто и Венецианское государство. Она и итальянский успела изучить за какой-нибудь год – в добавление к своему французскому, отличному после школы с уклоном, и сносному университетскому английскому.
А поженились они ровно через два года, как и сказал Костя, – в начале третьего курса.
Костины родители, наконец приехавшие из Калуги познакомиться с новой родней, оказались простыми и очень приятными людьми – хотя совсем другими, чем представляла их себе Лера.
Даже удивительно, как у такого яркого, громогласного и шумного человека, как прораб Иван Егорыч Веденеев, мог быть такой тихий и мягкий мальчик, как Костя.
– Эх, сватья! – гремел Иван Егорыч, выпив немного водки за знакомство. – Вот увидел я ваш дом, и рад за Котьку, ей-богу рад! Он же у нас такой парень – мухи не обидит, а его всякий обидеть может. Боялись мы с матерью за него, что и говорить – Москва же, да еще общежитие это, какие там нравы, известно. А тут у вас как у Христа за пазухой, как нам не радоваться!
Костя краснел, пытался остановить отца:
– Перестань, папа, ну при чем здесь общежитие! Что Надежда Сергеевна подумает…
– А чего ей думать? – удивлялся Иван Егорыч. – Ты ж не из-за квартиры, разве непонятно? Ты ж из-за Лерочки, красавицы такой!
И он тут же оборачивался к невестке, которая явно вызывала у него не меньшее восхищение, чем сватья и спокойный, уютный дом.
Но, несмотря на разницу темпераментов, взгляд у Ивана Егорыча был такой же бесхитростный и ясный, как у сына. И мама у Кости была тихая, неговорливая. Сидела, пригубливая водку, то и дело поправляя тщательно уложенные в парикмахерской волосы, и кивала, соглашаясь со всем, что говорили муж, и сватья, и невестка.
Свадьбу праздновали дома: не хотелось общепита, заказного веселья. Да и где же было праздновать Леркину свадьбу, как не в любимом, неповторимом дворе, к которому прикипела ее душа!
– Споешь, Митя? – спросила Лера, сообщая Мите Гладышеву день своей свадьбы. – Споешь на свадьбе у меня?
Она любила, когда Митя пел, да и все у них это любили. Он никогда специально не занимался вокалом, но у него был волшебный голос – за каждым словом, за каждым гитарным аккордом чувствовалось гораздо больше, чем только звучало…
– Спою, – ответил Митя. – Спою на твоей свадьбе, боевая подруга, буду петь, пока не охрипну!
И он пел, и играл на гитаре – сначала у Леры дома, а потом, уже в темноте, на осеннем бульваре посредине Неглинной, сидя на спинке скамейки и то и дело прихлебывая портвейн из стоящей на асфальте бутылки.
Пел все, что просила Лера: про соловья на углу, на Греческой, про пароход белый-беленький, дым над красной трубой, про то, как до полуночи мы украдкою утешалися речью сладкою…
И, конечно, ее любимую – про Кейптаунский порт. Лера и сама не понимала, почему так будоражат ее сердце незамысловатые слова про «Жанетту» с какао на борту и алую морскую кровь. Но когда Митя пел:
И больше не войдут в таверенный уют
Четырнадцать французских моряков…
Лежат убитые, в песок зарытые,
Крестами кортики в груди торчат… —
когда он пел, ей всегда хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Или просто он так умел спеть об этих жестоких страстях?
– А теперь про снежиночку с пальто, а, Мить? – попросила Лера, когда все песни были уже перепеты – хотя, правда, Митя неизвестно откуда знал их такое множество, что и в самом деле мог бы петь до полной хрипоты.
– Про снежиночку – не буду, – неожиданно ответил он.
– Почему? – удивилась Лера – она так любила эту песню!
– Не хочу.
И ничего больше не стал объяснять, но Лера тут же перестала просить. Митя делал только то, что хотел, и никто не мог его заставить – ей ли было этого не знать!..
Они напелись, насмеялись – а многие и напились – до одурения. Лера так устала перед своей первой брачной ночью, что без сил упала на диван.
– Ох, Костя, ну и повеселились! – выдохнула она. – Правда, хорошо было?
– Отлично, – согласился он. – Хорошие у тебя друзья.
– Ну, они старались сегодня. Даже Гоша набрался только к самому финишу, держал себя в руках.
– У Мити голос как у Высоцкого, – вдруг сказал Костя.
– Да ты что! – удивилась Лера. – С чего ты взял? Ничего общего: у Высоцкого хриплый голос, а у Мити баритон, и очень мелодичный. Совсем не похоже!
– Дело не в этом – мелодичный или хриплый, – не согласился Костя, но уточнять, что он имеет в виду, не стал.
А Лера так устала, что ей вообще было не до этого. Кроме того, хоть она и не впервые оставалась с Костей наедине, но так надоело за эти два года вечно куда-то торопиться, вечно от кого-то скрываться неизвестно почему, что она просто радовалась своей первой брачной ночи, и бесконечным ночам, которые будут потом.
Так началась ее семейная жизнь, которая и продолжалась теперь, октябрьским дождливым вечером, когда муж Костя пришел из Ленинки и ужинал на кухне, а жена Лера расспрашивала его про библиотечный буфет – для самоуспокоения.
Лера слушала мужа, улыбалась, чувствовала, как одолевает ее усталость, как сами собою слипаются ресницы, – но сквозь усталость, сквозь Костин голос и подступающий сон пробивался неотвратимый вопрос: как же они будут жить дальше?
Она так и уснула, чувствуя рядом Костино тихое дыхание – и не найдя ответа.
Глава 5
Мамино лекарство – первый звоночек, это Лера поняла сразу. Она кожей чувствовала, что жизнь скоро переменится совершенно; это не могло быть иначе. Интуиции ей всегда было не занимать – и Лера ждала перемен.
Да и как можно было их не предвидеть – после недавних августовских дней, которые так взбудоражили всю страну, и особенно Москву!
Лето этого года они с Костей, как обычно, проводили в Калуге – вернее, под Калугой, где у старших Веденеевых был в деревне домик. Вообще-то Лера любила деревенскую жизнь еще со времен Студенова, но заготовка запасов на зиму надоела ей до чертиков. Она просто не привыкла к тому, что это можно делать в таких масштабах – в Москве-то они с мамой питались из магазина, – и теперь просто изнывала от бесконечного консервирования, засолки и засушки.
Правда, свекровь не настаивала, чтобы этим занималась еще и Лерочка, но ведь самой неудобно сидеть с книжкой или гулять по окрестностям, когда вся семья собирает, варит, закручивает, да еще приговаривает: это деткам в Москву, на зиму!
В общем, Лера вздохнула с облегчением, когда, оставив Костю родителям в качестве заложника, смылась в середине августа в Москву, где очень кстати намечалась конференция по Данте в Библиотеке иностранной литературы.
Она вдруг почувствовала мало кем ценимую прелесть летнего пустого города: его пыли, сухой листвы, плавящегося асфальта и собственного легкого одиночества, – всего того, что пропускалось почти всеми москвичами, сбегавшими на это время за город.
Во дворе было пусто: большинство соседей тоже разъехались по дачам.