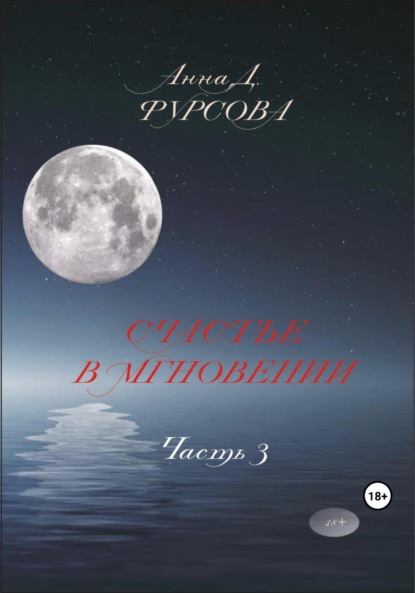По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Счастье в мгновении. Часть 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну что, сын, – возвращается Брендон и ставит на стол тарелку с бутербродами с черной икрой и армянский коньяк. – Сейчас принесу для тебя рюмку и…
Сын?
– Не стоит. Я стараюсь не употреблять, – прерываю его мягким, не допускающим возражения голосом, как указывал Тайлер. – Давайте перейдем к делу. Я надолго не задержу вас.
– Джексон, – он присаживается на диван, держа повелительную ровную осанку, – если ты, как можно раньше признаешь, что… – Подлая натура показывает наготу своей уродливой души.
– Брендон, – силы на исходе, – я ничего не буду признавать. Своё решение я сообщил ещё вчера. Я не буду следовать вашим умозрениям. Что мне сделать, чтобы Вы поняли это? Белла и миссис Гонсалес дома? Я проясню все, извинюсь и готов принять санкции, которыми Вы обременяете тех, кто отказывается от контракта, – почти с горячей мольбой говорю я. Этот поступок сделал бы каждый, твёрдо зная, за что или за кого он обязан чуткому сердцу стоять лицом вперёд и принимать ответные удары.
Он разражается хохотом, обнажающим его «лошадиные» зубы. Слышится нечто дикое, ужасающее.
– Я же сказал, у тебя нет выбора! – вмиг его смех сменяется горечью. Перед моим взором мелькает зловеще ухмыляющееся лицо. Это человеческое сердце беспрекословно уродливо. – Немедленно подписывай оставшиеся листы и готовься к отъезду! – Это подло, коварно, мерзко. Он снова успевает упрекнуть меня в неблагодарности за то, что сделал для меня, но я без промедления произношу, кидая эти листы со взмахом на пол, и они рассыпаются, точно по ветру:
– Нет!
Его глаза гневно сверкают из-под темно-серых бровей.
– Ты не сможешь бросить мою дочь! – указывает пальцем с плевком, разжигая во мне гнев.
– У меня изначально не было на неё серьёзных планов! – изъявляю я, уже повышая голос. – Поймите же, – снижаю тон, чтобы предыдущая мысль не показалось слишком грубой.
– Пойми ты меня, – тяжелый вздох вырывается из его груди, он второпях поглощает огненную жидкость, не заедая ничем, – она тебя любит, и не сможет без тебя жить!
Закурив сигарету, Брендон нервно выдыхает, взирая в одну точку.
С бессмысленным смехом, немного погодя, я отвечаю:
– Поставьте себя на мое место, как бы Вы…
Его кулак с громом обрушивается на стол, сметая рюмку, падающую на пол, и моя жестикулирующая рука замирает в воздухе.
– Поставь себя на мое место! – Между двумя затяжками продолжает с криком: – Моя дочь неизлечимо больна! И только, когда она с тобой, болезнь отступает! – Как будто пасть животного изрыгнула вопль.
В позе оторопевшего человека, выкрикиваю, с трудом решившись на такую фразу:
– Вы нагло лжёте!
– Не заставляй меня выворачивать наружу ее медицинскую карту, зачитывать, что у неё галлюцинаторно-параноидная (или параноидная) форма шизофрении, проявляющаяся время от времени в виде острых приступов. Она не признает, что больна, что тоже является одним из симптомов. – Грудь раскалывается пополам от выстрела. Я едва не лишаюсь сознания. Ропот изумления сменяется молчанием. Я не осмеливаюсь и дышать. Гнетущая тяжесть опускается на мои плечи.
«Я пропал».
Он встаёт, пыхтит с диким раздражением, монотонно ходя по залу, держа в руках стеклянную пепельницу, в которую стряхивает пепел.
С искаженным от ужаса лицом, обагренным кровью, с противным запахом табака, безмолвно внедряющегося в нос, мне удается слышать его разговор, будто с самим собой.
Его грудь ходит ходуном от борзых высказываний болезни дочери, произносящих им с тревожностью и чрезвычайной внушительностью.
– Этот диагноз впервые диагностировали, когда малютке не исполнилось и восьми лет… – Посасывая кончик сигары, он высказывает с материнской заботливостью так, что в его голосе поблескивает оттенок скорби, возрождая в нем душевную катастрофу. – Есть предположение, что виной всему явился глубокий стресс, который она испытала после смерти своей бабушки, моей матери, скончавшейся у неё на глазах, – продолжает пассивным, жалобным, унылым тоном, от которого я почти вздрагиваю, насыщая дымным зельем легкие, скрючившиеся, скорее от мыслей, нежели от едкого облака противного клубящегося надо мной дыма. – Она говорила несуразицу, она слышала потусторонние мысли… И если бы ограничивалось это дело только этим… – Он достает вторую сигарету, подносит ее губам и зажигает большими, судорожными, словно бьющимися в начальной стадии конвульсии, руками электронной зажигалкой. Медленно втягивая сардонический воздух через ноздри, во мне вспыхивает момент, как сидя в машине с ней, после того раза, когда ее дизайнерский проект пятимесячной работы не был одобрен, она всю дорогу в потоке злости разговаривала сама с собой, пока Тайлер, являясь психологом, не поговорил с ней и не загладил ее муторные мысли. Тогда он уже заподозрил странные вещи, происходившие с ней… И Милана, сколько раз указывала, что Белла заговаривала бредом, говорила то, чего не то чтобы не существует, а вовсе не подходит к текущим обстоятельствам. О чем думал я всё это время?
– С девяти лет с ней живет Джек…
– Джек? – Мои брови ползут вверх. Бисеринки пота выступают в складках лица.
Проглотив обильную слюну, он поясняет:
– Её воображаемый друг.
Не оправившись от шока, я сижу – мое дыхание едва восстанавливается. С каждой секундой словами он опускает мою жизнь в могилу.
– Мы объездили полмира в поисках «лекарства жизни», но… – меня обволакивает отвратительное, пробирающее, как озноб, ощущение, когда его звонкий, грубый голос сменяется на охрипший от тоскливой тревоги, – …даже высококвалифицированные врачи распускали руки и не подавали надежды на полное выздоровление. – С лихорадочной поспешностью и горящим, точно от бессилия, взором он заканчивает внушительную мысль, производящую бунт чувств.
Тягучим голосом находит слова, будто волочит за собой тяжелую ношу, когда, изнемогая от усталости, душевной усталости, не остается сил ни на что, но он тянет ее через пот и кровь, выливающуюся из кровяных нитей:
– Когда моя дочь стала видеться с тобой, она… – Его движения рукой, с жестами, подчеркивающими откровенный монолог, дышат страданиями, смешавшимися со злостью от обреченности. Глядя на него, хочется плакать. – Она стала другим человеком, нормальным, и, кажется, зажила той жизнью, о которой всегда мечтала, без врачей и регулярных анализов… – С горькой улыбкой вешаю на него невозмутимый взгляд, помещая в разум его говорения. – Мы с супругой стали замечать клинические улучшения. И все это время, пока ты с ней, – произносит громовым голосом, являя мысль, что он сам не рад, что я стал ее исцелителем, – уже как два года мы не замечали рецидивирующие приступы, требующие госпитализации. Но недавно… – Слова выворачивают меня наизнанку. Переместив взгляд на окно, я вижу, как лунный луч оставляет крохотные отблески на белом подоконнике. Так беззаботен, так свободен размах его сияния. – …ситуация обострилась, когда она увидела тебя и ту девицу на обложке газеты, – и снова в зловещей интонации говорит он. С удвоенным вниманием я пытаюсь его дослушать, но тону при этом в водовороте своих мыслей. – Мы еле ее спасли… Чтобы справиться с припадком требуется прилагать физическую силу минимум трех людей… – от него исходит самый шумный выдох, сотрясающий, напитавшийся ядом и тяжелыми фразами, воздух, – …и то, что ты тогда сделал для нас, сказав, что приобрёл дом для совместного жительства с ней, посетило меня на мысль, что ты порядочный мужчина и на тебя можно положиться. – Повесив на него угрюмый взгляд, который он в мгновение ока встречает, Брендон присовокупляет: – Она любит тебя всем сердцем и, благодаря этой любви, она себя излечивает… и в памяти меньше остается места от предыдущих срывов… С тобой она не нуждается в Джеке, ты ей заменяешь его… И ваши имена совпадают. Не верю я в знаки судьбы, атеистически относясь ко всему, но… Как тут не поверить?! – В его тембре голоса, действиях видно, что он предстает передо мной во всей наготе.
Во мне – внутреннее землетрясение. Всё окутывается мглой, не только я, но и окружающие предметы. Я свернул на ложный путь. Кажется, я поседел за эту минуту.
Голова горит. Если бы кто-нибудь мне однажды сказал, что именно такой грозный свет сольется на меня с небес и рассыплет в прах мою жизнь, я бы не поверил и посчитал такого предсказателя лжецом. Я безмолвствую, когда душа моя в невыражаемом смятении. Взрыв какого-то внутреннего смеха – ироничного, отчаянного – раздается в сердце. Ощущаю горький привкус злодеяния, отчетливее и отчетливее представляя нынешнее положение. Связываю его с путями выхода и прихожу в ужас, будто я проснулся ото страшного сна и еще пытаюсь надеяться, что всё это нереальность.
– Чт-о-о? – бессознательно отвечаю я, сгибаясь сидя. Руки лихорадочно изворачиваются в судорогах. Я сжимаю ими лоб, чтобы остановить вереницу мыслей. Рассудок порождает ураган.
– Я хотел бы в это не поверить… – Он покрывает глаза руками, словно стирает слезы. Его дыхание такое беспокойное, что издается шум, как от паровоза. – Нам очень тяжело. И только ты нам поможешь, – с крайней степенью мольбы проговаривает он. – Только ты, – уже шепчет, впервые позволив себе выглядеть со стороны беспомощным, когда всегда показывал себя владыкой, захватывающим лидером, которого никто и ничто не может подорвать или изменить в нем чувство всевластия, присущее ему. – С твоим появлением шагов, деланных по клиникам мира, стало меньше. И дочка обрела свою значимость в этом мире.
Если я – свет ее исцеления, то должен быть прикован к ней? Но… как же так? Горькая насмешка судьбы. Почему именно я способен снижать уровень проявления в ней приступов? Чуткое сердце трепещет при мысли, что если я брошу её, то буду носить невыносимую тяжесть в душе. Но что будет, если я останусь с ней? Лишь беспредельное отчаяние.
Внутри меня идет борьба голосов на решение непосильной задачи: дать согласие и спасти сердце и жизнь навеки больной или противиться этому, но угробить свою душу, при этом не убить свою жизнь. Мысли борются, как будто с каким-то великаном. Судорога совести сводит тело.
– Нет… нет… подождите, как так? – живо перебираю я со стуком в сердце. – И?.. Я? Нет, что вы?! – с растерянным видом я издаю крик; оборванные нити размышлений не отклоняются от прежнего направления. – Я? – Слова вылетают бессвязно, стремительно. – Нет, я не смогу пойти на этот шаг и… Мне искренне ж-жаль, вы… вы… – Мозг утратил способность разумно мыслить, обнажив дальние угла разума.
Восклицаю в глубине души: «Это ниспослано мне судьбой? Где же благой свет?»
Состояние, близкое к обмороку. Тряхнув головой, с замиранием сердца, я смотрю на него безумным исступленным взглядом.
– Теперь ты понимаешь, каково отцу, когда его ребёнок болен? И когда только один человек способен излечить его, мы боремся за то, чтобы он остался в его жизни…
Глубокая убеждённость, что все то, что говорит Брендон, правда, просачивается в сердце.
– Нет, это невозможно, чтобы я… – Я пытаюсь говорить наперекор сталкивающимся мыслям.
Недрогнувший голос мощи и силы отвечает:
– Джексон, я могу показать ее последние анализы перед тем, как мы поехали на Мальдивы. Они значительно отличаются по показателям от тех, которые были ранее. Врачи ставили исключительно неутешающие прогнозы и картина болезни с каждым годом либо ухудшалась, либо оставалась стабильной.
– И вы хотите, чтобы я… – начинаю я с торопливостью и не могу досказать, проглатывая слюну, точно горечь.
– Будь с ней, – указывает, но в мягком подкупающем тоне. – Не отпускай ее от себя ни на шаг. Я позабочусь обо всех финансовых нуждах, устрою такую жизнь, которую бы ты хотел, – он смотрит мне прямо в глаза, сообщая это. Этот взгляд не описать. Его можно сравнить с молитвословием, искренним упрашиванием, будто он нашел во мне чудотворца, оттого способен сделать для меня всё, лишь бы я исполнил его просьбу. – Ты никогда не будешь в чем-либо нуждаться. Все будет у твоих ног, только береги мою дочь и занимайся любимым делом. Большего я и не прошу.
Я стараюсь сложить мысли в единое русло: