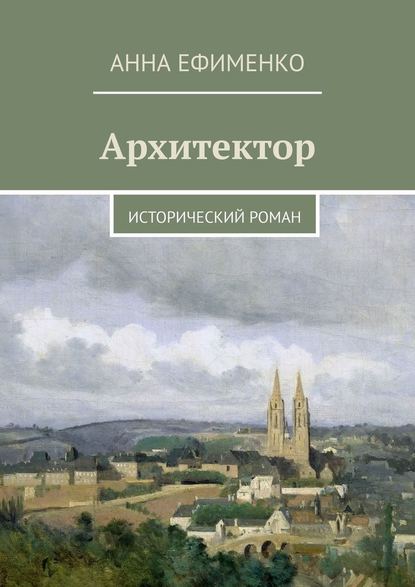По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Архитектор. Исторический роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И что, теперь ты чувствуешь себя сыном Иисуса? Теперь ты чувствуешь себя мужчиной?
Отец рывком поднимает меня с колен и велит идти в дортуар. Братья осуждают. Ребята, вы мне не поможете больше, идите гуляйте дальше. Если они решат запереть меня здесь, я больше никогда не смогу строить, покрывать крышу, класть стену, вырезать фигурки. Они решат переломить меня о колено, легче легкого, о любое, даже самое слабое колено, и я рассыплюсь живьем. Но задумай они сломить мою волю, ничего не выйдет. В конце концов, всегда можно заморить себя голодом. Белое, Господи, до чего же все белое, и свет, всюду свет, слышишь, как мое сердце освобождается из телесной клетки и улетает навсегда, все вокруг становится белого цвета. Очертания исчезают, и я теряю сознание, напоследок ухватившись за ветку, за чью-то мантию, за воздух. И хвала Богу, я уже почти что мертв, и хвала вашему Богу за то, что мне не страшно, и хвала Богу, что мне все равно.
Я выверну себя наизнанку, только бы они все обратили на меня внимание.
* * *
Хорхе старел. Иногда его укладывали лечиться на несколько недель, и давали в пищу птицу (еще один повод повидаться с девушкой на рынке). Он уже не выдерживал посты.
Я читал ему, сидя рядом в лазарете, пока он перебирал четки. Говорят, там, в городе, далеко от нас, резчики четок из кораллов учились у мастера целых двенадцать лет своему ремеслу… А есть другие города, и есть город Париж, а за ним – Сен-Дени с его королевской усыпальницей. Сюжер, их аббат, первым задумал соорудить здание наподобие Шартрского собора, объединил традиции Бургундии (стрельчатые арки) и Нормандии (реберный каркас). Мило рассказывал, что Сюжера вдохновил Иерусалим – место божественного света, столько же света он хотел подарить обычной каменной постройке. Для этого нужно было придумать, как сделать свод высоким, а вместо стен устроить огромные окна. «Dilectio decoris domus Dei»[2 - Лат. «Любовь к красоте Божьего дома».] – так говорил Сюжер о Сен-Дени. Не веря до конца в подобные сказки, я спросил у Мило, кем они были, тот Сюжер и его братия. Тоже бенедиктинцы, как и вы, ответил мастер…
Хорхе прервал мои размышления:
– Теперь ты хорошо питаешься?
– Еще бы! Даже украл кусок жареной утки, полагавшийся тебе по состоянию здоровья! Отец, – я наклонился и обнял его, – что мне тебе еще сделать?
– Ora et labora.[3 - Лат. «Молись и работай», девиз бенедиктинцев.]
– Только этим и занимаюсь! Хорхе… тебе ведь не нравится, что я строю, да?
Откинувшись назад, отец долго молчал, после чего тихим голосом произнес:
– Делай что хочешь. Только хотя бы изредка ешь, прошу тебя.
Глава 4. Хорхе
Тряпка на полу оказалась мертвецом. В темноте овечка обернулась волком. Мы найдем его только к утру, уже окоченевшего насовсем.
Всю ночь я работал в скриптории, пытаясь за пару часов переписать то, что задолжал за неделю висения вниз головой на стройках Грабена. Буквы выплясывались уродливые, неаккуратные из перемазанных чернилами разбитых пальцев, ковырявших целую неделю каркасы будущих зданий, булыжники и черепицу. Шаги зашлепали у входа в скрипторий, я инстинктивно обернулся. Концентрируя зрение на стволах колонн, отметил, как применение темного мрамора усиливает эффект орнамента. Тут некого было бояться, за этими колоннами. Не спалось, за исключением меня, одному лишь брату Мигелю, мелкому и конопатому, лоб его горел, волосы взъерошились, торчали в разные стороны.
– Ты болен? – я успел подхватить Мигеля за локоть, прежде чем он упал на скамью рядом.
– Нет… Шел на кухню за водой, и увидел здесь свет, а потом и тебя, – ответил он, с трудом переводя сбивчатое, неровное дыхание.
– А мне показалось уже, что у тебя жар.
Монах потупился.
– Ансельм, что доставляет тебе самое сильное наслаждение?
Миг я колебался. Пока правда сама не выгромоздилась в голове последним рубежом, отделяющим меня от всего вокруг – скриптория, братии, текстов, литургий. И я смог ее выплюнуть в мир, совершенно четко оформившуюся:
– Работа с камнем.
Мигеля мой ответ явно разочаровал. Он возвратился спать, так и не набрав воды на кухне. Там он окажется только к утру, когда я, сызнова нарушая устав, запрещающий проводить ночь за стенами монастыря, перемахну через стену и под солнцем сезонов буду контролировать подъем материала на постройку «волчьей лапой» или «волком» – особыми щипцами, оставляющими в камне кусучие следы.
Незадолго до этого, первого мая несколько мужчин, представлявших купечество, захотели обсудить с Хорхе предстоящую ярмарку. Она проходила на территории аббатства, и нам полагалась за нее определенная пошлина. Однако отец слишком ослаб, его состояние так и не улучшилось с приходом весны, поэтому распределять торговые места и решать все остальные вопросы по ярмарке поручили приору.
По дороге домой я увижу будущие прилавки. Эдвард обладал хитрым, прозорливым умом и коммерческой жилкой, поэтому торговать собирались всем, чего душа пожелает. Купцы развяжут тут свои тюки со шкурками, беличьими, кроличьими, кошачьими, рыжими и серыми. Рыбники разложат уловы: усачей, осетров, миног с алозами. Привезут и что попроще – вафли да пироги, каштаны и инжир, масло, кислый виноградный сок, куропаток и каплунов, сорта всех вин.
По дороге домой я опять увижу Мигеля, бегущего с горы, снова растрепанного, перевозбужденного, заплаканного. И он хлопнется на мою грудь, я оттяну его и рассмотрю мелкие страдальческие гримасы, исказившие пухлое лицо, и проведу по переносице, и спрошу нарочито суровым тоном, голосом, становящимся с каждым днем все ниже и ниже:
– Что случилось?
Мигель поднимет на меня свои закутанные пеленой слез глаза и скажет другую оформившуюся камнем правду:
– Аббат умер.
* * *
Когда-то на этом же месте мы играли в «раз-два-три-побежали-ка-с-горы!», и он, выстилая листьями дно корзины для ягод, мог раздавить меня одним движением, как букашку, об имени которой сообщал. Пчела зовется пчелой и ее труд в меде да воске, в дальних краях мошкара может облепить всю руку, изжалить ее, там бывает нестерпимо жарко. Малина, голубика, бесконечные заросли черемухи, в которых я от него прятался, когда он мог так легко меня уничтожить. Но он рассказывал о пасечниках, об урожае, о королях, об архангелах, о пахоте, об Аристотеле, об осушении болот, о ростовщиках, о Боге, который тоже в любой момент смог бы меня раздавить одним жестом. Если бы отец позволил это.
Вместо этого он сажал меня на плечо, катал в тележке, учил управлять повозкой. Был счастлив, когда я стал осваивать язык, и никогда не принимал всерьез зодческие стремления. Для работы в скриптории нужна зоркость, которая коптится свечами, стачивается о буквы, тупится об углы пергамента. И он мешал морковь с чесноком для цепкого глаза переписчика книг, и мы с ним ели это, и умели смотреть в самую глубь текста.
Потом я креп, костенел, брал не перо, а циркуль, брал кирпич, брал кирку, подчинял себе материю, и нужно было ждать, пока отец отдышится, когда мы теперь уже изредка ходили за водой вместе, и у него оставалось все меньше сил. Хорхе потерял сознание и упал на каменные плиты.
Тряпка на полу оказалась мертвецом – а эти олухи боялись пропустить служение.
* * *
Что знал я о Хорхе? Он приехал в наши края из Бургоса, однако испанского в нем было разве что имя. В бытность свою маленьким мальчиком тяжелее всех в семье переносил голод, из-за которого даже не мог уснуть. Когда-то Хорхе был черноволосым, а потом я помнил его только седым.
На один день тело выставили в церкви, чтобы все смогли попрощаться. После, на кладбище, мы сможем найти его последнее пристанище по высаженным тисам. Высокие деревья издревле указывали место захоронения, даже если святилище рядом было разрушено. Высота всегда визуальна и благородна, взлетает в небо вслед за жестом отца.
Хорхе уходит в могилу в своей черной рясе, забирая теперь уже навсегда тайну моего происхождения. Худой Хорхе Бургосский, слепец, настоятель, мой любимый отец, суровый аббат, железная дисциплина, голодарь, правитель общины и гроза братии, виноградарь, Хорхе-костлявая рука, Хорхе-стеклянные глаза, наш бессменный глава уходил в могильную яму, и нам оставалось лишь молиться за его душу.
Все ангелы и все волшебники, добрые и злые, зажигали свечи в память о Хорхе, пока я едва держался на ногах в этих кошмарных проводах, а потом полз, полз, распластавшись вертикально по сырой стене, и карабкался вверх, и в итоге дополз до кельи Эда, где проревел всю ночь в его соломенные волосы, свалявшиеся, мокрые, облепившие напряженную голову, которая, тоже бессонная, теперь судорожно просчитывала варианты собственного возвышения в сане.
Если снова наткнусь на перевозбужденного Мигеля в скриптории, то не убегу в Грабен, а обману время, и Хорхе будет вновь живой. Но время невозможно обмануть. Оно, как и пространство, было беспрерывно. Оно принадлежало одному лишь Богу, а значит, могло быть только пережито.
* * *
Я похоронил отца – дальше взрослеть было некуда.
Приор вызвал на разговор. Не иначе как поквитаться за сорванный когда-то магический ритуал. Перекрестившись и глубоко вздохнув, я зашел к нему в келью.
– Когда стану аббатом, – начал Эдвард так, словно это был уже решенный вопрос, – то первым делом займусь твоим постригом.
– Но тогда мне придется покинуть монастырь…
– Именно поэтому я так спешу, – приор быстро выглянул в коридор, убеждаясь, что нас никто не слышит. – Чтобы ты не сгнил в этих стенах, как я.
Мой безухий благодетель, как всегда, подстроил все так, что судьба вывела меня на путь истинный. Все складывалось само собой, и, блуждая по лабиринту богоугодной жизни, я вновь выталкивался, выплевывался, выкидывался вон, в безумный мир людских амбиций и грехов, крепко сжимая с руках циркуль и наугольник.
– Эй, Ансельм! – окликнул меня приор, когда я был уже в дверях. – Держи!
Он бросил мне кожаный мешочек, туго набитый золотыми монетами. Поймав его и спрятав за пазухой, я спросил: