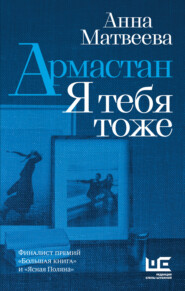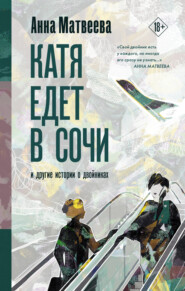По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Каждые сто лет. Роман с дневником
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Цепочка.
Я нарочно сказала это слово по-таракановски, с ударением на первый слог, чтобы позлить отца: но он никак не отреагировал на вопиющее нарушение культуры речи. Лишь вздохнул, как человек, терпение которого на исходе.
– Понимаю, что цепочка (в отличие от меня, Валентин Петрович произносил это слово, как будто так и надо). Откуда она у тебя взялась?
– Подруга подарила. На день рождения.
– Давно?
– Два года назад.
– Ты не будешь возражать, если мы временно одолжим эту цепочку?
– Пожалуйста. Я всё равно её не ношу. Там замок сломан, видите?
– Вот и именно, что сломан, – сказал Валентин Петрович, буровя взглядом Василия Михайловича. – Вот и именно.
Я подумала, что Валентин Петрович, судя по всему, читает не так много книг, иначе он бы знал, что надо говорить «вот именно», а не «вот и именно». Но исправлять его вслух не стала. Странно, что на Ольгину «недельку» ни тот, ни другой следователь не обратили внимания…
Потом мы вышли из дома (мама неуверенно предлагала милиционерам беляши, но они отказались). Я показывала дорогу. Мне к тому времени всё это уже надоело, я устала и хотела есть, была согласна даже на подгоревшие беляши. Но следователи никуда не торопились. Василий Михайлович изучал надписи на гаражах, Валентин Петрович что-то записывал в блокноте. Место, где лежало кольцо, они исследовали особенно внимательно, потом осмотрели все кусты, траву и даже заглянули в помойный ящик, который стоит по соседству! Василий Михайлович взвесил на ладони поломанную ветку сирени и подобрал с земли пуговицу – блестящую, белую, с нитками и кусочком ткани. Про такие говорят: «Вырвана с мясом».
– Ты очень нам помогла, Ксения, – сказал Василий Михайлович.
А Валентин Петрович хмыкнул при этих словах.
Где варенье?
Полтава, декабрь 1896 г.
Несмотря на все предосторожности, новую до пят шубу, два головных платка, тёплые чулки и большие резиновые боты, отороченные барашком, я умудрилась простудиться, а скорей всего, заразилась инфлюэнцей. Слово это только вошло в употребление. После болезни меня долго мучил кашель, я сидела дома, мама ежедневно ходила в гимназию за уроками. Я стала такая худая и бледная, что мама, когда я как-то к ней обернулась, чтобы о чём-то спросить, не могла скрыть жалости и тревоги, сказав:
– Ну что ты, моя бледнушка?
Это было сказано с такой теплотой в голосе, что у меня от радости сердце забилось. Значит, она всё-таки меня любит! И я почувствовала, что тоже её люблю. Это открытие меня обрадовало. Мне всегда не по себе сознавать, что я не люблю своих родителей.
Мама не на шутку встревожилась и начала меня лечить. Рыбий жир я пила, сколько себя помню, но нужно было добавить ещё что-то укрепляющее, и меня стали поить молоком с чайной ложкой коньяку. Потом кто-то надоумил натыкать гвоздей в антоновку и испечь. Я послушно ела яблоки, печённые с гвоздями, без всякого, впрочем, удовольствия. Так как ни румянца, ни полноты не прибавлялось, обратились к доктору, Овсею Захаровичу. Тот пробормотал что-то о конституциональной худобе и прописал железо с молоком. От этого железа, гвоздей или от того и другого у меня пожелтели зубы. Это, конечно, не красило мою худую физиономию.
Мой плохой вид бросился в глаза даже отцу. Он решил помочь делу гимнастикой. Каждое утро выходил в залу с руководством по шведской гимнастике системы Миллера и заставлял меня делать вдохи и выдохи, махать руками и ногами. Мне это нравилось, тем более что отец был миролюбив и не раздражался. Но раз он не вышел, сославшись на плохое самочувствие, а потом переложил всё дело на меня: пусть сама делает, все движения знает. Я сперва делала, потом раз забыла, другой раз забыла, никто мне не напоминал, и моя физкультура кончилась.
Отец решил возобновить прерванные периодом запоя литературные чтения и начал знакомить меня с Тургеневым. Прежде он прочитал мне главные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и «Горе от ума». Сперва читались избранные рассказы из «Записок охотника», потом «Дворянское гнездо». Но роман есть роман, отец, не подготовившись заранее, начал останавливаться, пробегать глазами страницу, опять читать, плохо связав с предыдущим текстом. Такое чтение со скачками и пропусками не доставляло удовольствия ни ему, ни мне, тем более что о Лизе я уже знала из «Галереи детских портретов». Отец скомкал роман, и чтения прекратились, к моему большому сожалению.
Ему становилось всё хуже: водка, табак и гастрономические увлечения делали своё дело. Как-то мама принесла целое блюдо ярко-красных варёных раков и велела мне чистить их для ракового супа. У неё было сердитое лицо:
– Потребовал раковый суп… Знает ведь, что он ему вреден. Прошлый раз болел. Но нет, подай ему раковый суп!
Суп был очень вкусный. В его однородной массе плавали вычищенные мною раковые шейки и красные скорлупки с выпученными глазами и длинными усами, набитые фаршем из сухарей с толчёными лапками. Суп подавался холодным.
Вечером отец заболел. Ему стало очень худо, послали за Овсеем Захаровичем. Мама, испуганная, вбежала в кабинет, где я читала при свечке:
– Молись, молись, Ксеничка, папе очень плохо. Молись, чтоб он не умер.
Я бросилась на колени, стала молиться. В эту минуту мне казалось ужасным его потерять. Через некоторое время мама прибежала:
– Ложись спать. Папе лучше.
В конце месяца приехал брат, он был на практике, на станции Кавказской. Лёля стал ещё красивее, стройнее. Держал себя непринуждённо, немножко важничал, рассказывал смешные анекдоты про товарищей и профессоров. Со мной поздоровался за руку, но разговором не удостоил.
Я ходила в гимназию, готовила уроки, читала, занималась с мамой французским и немецким. На музыку времени уже не оставалось, правда, мама принесла от Шафрановых этюды Бруннера, но они не прижились. Мне играть их не хотелось, а мама не заставляла. Когда отцу стало лучше, он начал читать накопившиеся номера «Нивы» и «Севера» и приложения к ним. Читал газету и делился новостями с мамой. Читал про дело Дрейфюса и крестьянские волнения. Иногда подзывал маму:
– Вот! Читай! Революции не миновать!
Мама читала и вздыхала.
– Все будем висеть на фонаре, – говорил отец.
Мама отходила от него с новым вздохом.
Я прежде читала про французскую революцию, мне всё это казалось далёким историческим прошлым, не относящимся к нашей стране. Разговор родителей встревожил, и я спросила маму:
– Правда, что у нас будет революция?
Она немножко удивилась вопросу, задумалась и затем сказала твёрдо:
– Конечно, будет.
– И мы все будем висеть на фонаре?
– Кто же это может знать? Революция будет, потому что народу жить очень тяжело. А тебе незачем беспокоиться. Ещё не скоро будет.
В ноябре пришло напугавшее всех известие: брат, тогда студент III курса, заболел брюшным тифом. Мама стала сама не своя. Письма и телеграммы из Петербурга от Гени шли беспрерывно. Сестра успокаивала маму. Врачи обнадёживают, организм крепкий, болезнь идёт без осложнений. Отец пил. Мама сидела в столовой, читала письма, вздыхала, писала сама.
Было солнечное зимнее утро, когда пришла страшная телеграмма, что у Лёли рецидив и положение почти безнадёжное. Отец был в состоянии тяжёлого запоя, он кричал, бредил. Говорить с ним было бесполезно: он ничего не понимал. Мама с телеграммой в руках стояла, точно окаменев. Потом быстро подошла к шкафу и начала брать оттуда бельё. На меня даже не глянула. Я собралась с духом:
– Ты… уезжаешь?
Также не глядя на меня, она стала укладывать вещи и потом сказала твёрдым голосом, как бы говоря с самой собой:
– Если надо выбирать между мужем и сыном, я выбираю сына.
Я не помню, как мы простились, она так спешила, точно за нею гнались. Возможно, боялась, что отец очнётся и ей помешает. Мама поручила меня прислуге Глаше и исчезла. Глаша подала мне обед, и я ела его, глотая слёзы. После Глаша принесла четырёх котят и сказала, что барыня велела передать их мне. Котята были удивительно красивы: два чёрных, как смоль (один с белой грудкой), один совсем белый и один серый, полосатый. Опасаясь простуды и не доверяя Глаше, мама распорядилась, чтобы я сидела дома, в гимназию не ходила, и я осталась в четырёх стенах без школы, без прогулок, с пьяным отцом и четырьмя котятами.
Из комнаты отца неслись дикие крики. Ничего подобного раньше не было. Глаша отсиживалась в кухне и появлялась только с едой или самоваром. Несколько дней отец бушевал, не пил, не ел и не спал.
«А вдруг он умрёт?» – думала я. И, почувствовав себя такой жалкой, всеми покинутой, начала реветь.
Поздно вечером пришла первая телеграмма от мамы из Петербурга, Глаша принесла её отцу. Он сел в кровати и бессмысленно смотрел на неё. Глаша требовала расписки, совала ему карандаш, он что-то стал чертить дрожащей рукой и завалился на подушку. Нераскрытая телеграмма лежала около его руки на кровати. Я расписалась, Глаша ушла, не задув свечи. Меня охватила тревога. Что там, в телеграмме? Может, брат умер? Застала ли мама его живым?
Отец зашевелился, открыл глаза. Я спросила:
Я нарочно сказала это слово по-таракановски, с ударением на первый слог, чтобы позлить отца: но он никак не отреагировал на вопиющее нарушение культуры речи. Лишь вздохнул, как человек, терпение которого на исходе.
– Понимаю, что цепочка (в отличие от меня, Валентин Петрович произносил это слово, как будто так и надо). Откуда она у тебя взялась?
– Подруга подарила. На день рождения.
– Давно?
– Два года назад.
– Ты не будешь возражать, если мы временно одолжим эту цепочку?
– Пожалуйста. Я всё равно её не ношу. Там замок сломан, видите?
– Вот и именно, что сломан, – сказал Валентин Петрович, буровя взглядом Василия Михайловича. – Вот и именно.
Я подумала, что Валентин Петрович, судя по всему, читает не так много книг, иначе он бы знал, что надо говорить «вот именно», а не «вот и именно». Но исправлять его вслух не стала. Странно, что на Ольгину «недельку» ни тот, ни другой следователь не обратили внимания…
Потом мы вышли из дома (мама неуверенно предлагала милиционерам беляши, но они отказались). Я показывала дорогу. Мне к тому времени всё это уже надоело, я устала и хотела есть, была согласна даже на подгоревшие беляши. Но следователи никуда не торопились. Василий Михайлович изучал надписи на гаражах, Валентин Петрович что-то записывал в блокноте. Место, где лежало кольцо, они исследовали особенно внимательно, потом осмотрели все кусты, траву и даже заглянули в помойный ящик, который стоит по соседству! Василий Михайлович взвесил на ладони поломанную ветку сирени и подобрал с земли пуговицу – блестящую, белую, с нитками и кусочком ткани. Про такие говорят: «Вырвана с мясом».
– Ты очень нам помогла, Ксения, – сказал Василий Михайлович.
А Валентин Петрович хмыкнул при этих словах.
Где варенье?
Полтава, декабрь 1896 г.
Несмотря на все предосторожности, новую до пят шубу, два головных платка, тёплые чулки и большие резиновые боты, отороченные барашком, я умудрилась простудиться, а скорей всего, заразилась инфлюэнцей. Слово это только вошло в употребление. После болезни меня долго мучил кашель, я сидела дома, мама ежедневно ходила в гимназию за уроками. Я стала такая худая и бледная, что мама, когда я как-то к ней обернулась, чтобы о чём-то спросить, не могла скрыть жалости и тревоги, сказав:
– Ну что ты, моя бледнушка?
Это было сказано с такой теплотой в голосе, что у меня от радости сердце забилось. Значит, она всё-таки меня любит! И я почувствовала, что тоже её люблю. Это открытие меня обрадовало. Мне всегда не по себе сознавать, что я не люблю своих родителей.
Мама не на шутку встревожилась и начала меня лечить. Рыбий жир я пила, сколько себя помню, но нужно было добавить ещё что-то укрепляющее, и меня стали поить молоком с чайной ложкой коньяку. Потом кто-то надоумил натыкать гвоздей в антоновку и испечь. Я послушно ела яблоки, печённые с гвоздями, без всякого, впрочем, удовольствия. Так как ни румянца, ни полноты не прибавлялось, обратились к доктору, Овсею Захаровичу. Тот пробормотал что-то о конституциональной худобе и прописал железо с молоком. От этого железа, гвоздей или от того и другого у меня пожелтели зубы. Это, конечно, не красило мою худую физиономию.
Мой плохой вид бросился в глаза даже отцу. Он решил помочь делу гимнастикой. Каждое утро выходил в залу с руководством по шведской гимнастике системы Миллера и заставлял меня делать вдохи и выдохи, махать руками и ногами. Мне это нравилось, тем более что отец был миролюбив и не раздражался. Но раз он не вышел, сославшись на плохое самочувствие, а потом переложил всё дело на меня: пусть сама делает, все движения знает. Я сперва делала, потом раз забыла, другой раз забыла, никто мне не напоминал, и моя физкультура кончилась.
Отец решил возобновить прерванные периодом запоя литературные чтения и начал знакомить меня с Тургеневым. Прежде он прочитал мне главные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и «Горе от ума». Сперва читались избранные рассказы из «Записок охотника», потом «Дворянское гнездо». Но роман есть роман, отец, не подготовившись заранее, начал останавливаться, пробегать глазами страницу, опять читать, плохо связав с предыдущим текстом. Такое чтение со скачками и пропусками не доставляло удовольствия ни ему, ни мне, тем более что о Лизе я уже знала из «Галереи детских портретов». Отец скомкал роман, и чтения прекратились, к моему большому сожалению.
Ему становилось всё хуже: водка, табак и гастрономические увлечения делали своё дело. Как-то мама принесла целое блюдо ярко-красных варёных раков и велела мне чистить их для ракового супа. У неё было сердитое лицо:
– Потребовал раковый суп… Знает ведь, что он ему вреден. Прошлый раз болел. Но нет, подай ему раковый суп!
Суп был очень вкусный. В его однородной массе плавали вычищенные мною раковые шейки и красные скорлупки с выпученными глазами и длинными усами, набитые фаршем из сухарей с толчёными лапками. Суп подавался холодным.
Вечером отец заболел. Ему стало очень худо, послали за Овсеем Захаровичем. Мама, испуганная, вбежала в кабинет, где я читала при свечке:
– Молись, молись, Ксеничка, папе очень плохо. Молись, чтоб он не умер.
Я бросилась на колени, стала молиться. В эту минуту мне казалось ужасным его потерять. Через некоторое время мама прибежала:
– Ложись спать. Папе лучше.
В конце месяца приехал брат, он был на практике, на станции Кавказской. Лёля стал ещё красивее, стройнее. Держал себя непринуждённо, немножко важничал, рассказывал смешные анекдоты про товарищей и профессоров. Со мной поздоровался за руку, но разговором не удостоил.
Я ходила в гимназию, готовила уроки, читала, занималась с мамой французским и немецким. На музыку времени уже не оставалось, правда, мама принесла от Шафрановых этюды Бруннера, но они не прижились. Мне играть их не хотелось, а мама не заставляла. Когда отцу стало лучше, он начал читать накопившиеся номера «Нивы» и «Севера» и приложения к ним. Читал газету и делился новостями с мамой. Читал про дело Дрейфюса и крестьянские волнения. Иногда подзывал маму:
– Вот! Читай! Революции не миновать!
Мама читала и вздыхала.
– Все будем висеть на фонаре, – говорил отец.
Мама отходила от него с новым вздохом.
Я прежде читала про французскую революцию, мне всё это казалось далёким историческим прошлым, не относящимся к нашей стране. Разговор родителей встревожил, и я спросила маму:
– Правда, что у нас будет революция?
Она немножко удивилась вопросу, задумалась и затем сказала твёрдо:
– Конечно, будет.
– И мы все будем висеть на фонаре?
– Кто же это может знать? Революция будет, потому что народу жить очень тяжело. А тебе незачем беспокоиться. Ещё не скоро будет.
В ноябре пришло напугавшее всех известие: брат, тогда студент III курса, заболел брюшным тифом. Мама стала сама не своя. Письма и телеграммы из Петербурга от Гени шли беспрерывно. Сестра успокаивала маму. Врачи обнадёживают, организм крепкий, болезнь идёт без осложнений. Отец пил. Мама сидела в столовой, читала письма, вздыхала, писала сама.
Было солнечное зимнее утро, когда пришла страшная телеграмма, что у Лёли рецидив и положение почти безнадёжное. Отец был в состоянии тяжёлого запоя, он кричал, бредил. Говорить с ним было бесполезно: он ничего не понимал. Мама с телеграммой в руках стояла, точно окаменев. Потом быстро подошла к шкафу и начала брать оттуда бельё. На меня даже не глянула. Я собралась с духом:
– Ты… уезжаешь?
Также не глядя на меня, она стала укладывать вещи и потом сказала твёрдым голосом, как бы говоря с самой собой:
– Если надо выбирать между мужем и сыном, я выбираю сына.
Я не помню, как мы простились, она так спешила, точно за нею гнались. Возможно, боялась, что отец очнётся и ей помешает. Мама поручила меня прислуге Глаше и исчезла. Глаша подала мне обед, и я ела его, глотая слёзы. После Глаша принесла четырёх котят и сказала, что барыня велела передать их мне. Котята были удивительно красивы: два чёрных, как смоль (один с белой грудкой), один совсем белый и один серый, полосатый. Опасаясь простуды и не доверяя Глаше, мама распорядилась, чтобы я сидела дома, в гимназию не ходила, и я осталась в четырёх стенах без школы, без прогулок, с пьяным отцом и четырьмя котятами.
Из комнаты отца неслись дикие крики. Ничего подобного раньше не было. Глаша отсиживалась в кухне и появлялась только с едой или самоваром. Несколько дней отец бушевал, не пил, не ел и не спал.
«А вдруг он умрёт?» – думала я. И, почувствовав себя такой жалкой, всеми покинутой, начала реветь.
Поздно вечером пришла первая телеграмма от мамы из Петербурга, Глаша принесла её отцу. Он сел в кровати и бессмысленно смотрел на неё. Глаша требовала расписки, совала ему карандаш, он что-то стал чертить дрожащей рукой и завалился на подушку. Нераскрытая телеграмма лежала около его руки на кровати. Я расписалась, Глаша ушла, не задув свечи. Меня охватила тревога. Что там, в телеграмме? Может, брат умер? Застала ли мама его живым?
Отец зашевелился, открыл глаза. Я спросила: