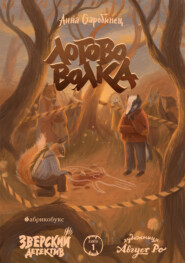По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Переходный возраст
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он ответил: «Мне все можно». – «Это почему?» – поинтересовалась я. И он мне сказал… Знаете, что он мне сказал?
– Что?
– Он сказал: «Мне все можно, потому что я королева».
– Королева? – изумилась Марина. – Может быть, все же король?
– Нет. Королева. – Классная руководительница посмотрела на нее, как на душевнобольную. – А вы думаете, если бы он сказал «король», это бы все прояснило?
Потом, когда Марина, нервно расхаживая по комнате и периодически срываясь на крик, спрашивала сына, что все это значит («Разве я тебя мало кормлю?», «Может, Леша тебя чем-то обидел?», «Ты действительно грозился его задушить?», «И что за ”королева”? Ты слышишь меня, при чем здесь королева?»), он только молчал. Угрюмо глядел в пол и молчал – как всегда молчат дети, когда они напуганы или не знают, как оправдываться; возможно, им кажется, что молчание делает их невидимыми, несуществующими…
Кончилось тем, что Марина обещала лишить его в ближайшую неделю сладкого (возможно, не самое строгое наказание, но сладости были единственным, что ее сын – уже тогда слишком полный для своего возраста – любил и ценил).
– Не надо, – тихо сказал Максим и впервые за весь разговор поднял на нее глаза. Очень злые, холодные глаза.
И Марине так захотелось убрать, смягчить этот неприятный чужой взгляд, что она ответила:
– Хорошо. Только обещай мне, что ничего подобного больше не повторится.
– Ничего подобного больше не повторится, – эхом отозвался Максим.
Больше на него действительно никогда не жаловались ни одноклассники, ни учителя. (Правда, потом была еще история с книжкой… Когда из школьной библиотеки позвонили и сообщили, что Максим долго не возвращает им книгу, и Максим сказал ей, что потерял. И она сказала: «Ну, ничего» – и заплатила в библиотеке штраф, а через пару дней нашла обложку от этой книги и некоторые страницы, разодранные и помятые, в мусорном ведре и сделала вид, что ничего не заметила… Но это ведь ерунда.)
«Да, кажется, тогда все и началось по-настоящему, – подумала Марина, открывая входную дверь и вдыхая привычный, затхлый домашний запах. – Странности».
Двенадцать
В прихожей ее встретила дочь. Она была худенькая и вертлявая – всем своим видом являла странный контраст близнецу-брату. Вика молча поцеловала мать в щеку, подождала, пока та повесит пальто и наденет тапочки, и хвостиком последовала за ней на кухню.
– Мама, я не хочу жить с Максом в одной комнате, – сказала Вика.
– Почему?
– Он не моется. У нас в комнате плохо пахнет. И еще… по его кровати кто-то ползает. Насекомые.
– Не выдумывай.
– Нет же, правда, ползают! Я несколько раз видела. Однажды я даже видела, как они ползали прямо по нему, когда он спал. Пожалуйста, можно я буду жить с тобой?
– Но… Вика, ты же знаешь. У меня в комнате иногда ночует дядя Витя.
– Ну, пожалуйста! Дядя Витя – он ведь теперь очень-очень редко приходит!
«…И скоро совсем перестанет приходить», – подумала Марина, равнодушно вспоминая усталое, хмурое, так и не успевшее стать родным лицо. Два года назад, когда внешне все было еще хорошо, он уже почти переехал к ним. Но все изменилось.
Теперь он приходит очень-очень редко, это правда (а кроме него у них вообще никто не бывает). Он приходит поздно, когда дети уже спят, а уйти старается как можно раньше – и она знает почему. В узком коридорчике, ведущем в ванную, в маленькой опрятной кухне он боится столкнуться с ее сыном. С жирным, потным, покрытым коркой угрей существом. Он не хочет браться за те же дверные ручки, к которым прикасались эти липкие руки, или сидеть на стуле, нагретом этой распухшей задницей. Он не хочет вспоминать, как близок был когда-то к тому, чтобы заменить этому уродцу отца.
Он все еще приходит иногда – пассивно позволяя чувству долга, или жалости, или просто привычке привести себя в неуютное чужое место. Поздно вечером он ложится в ее постель, и, приподнимаясь на локте, чтобы выключить свет, она порой ловит на себе его взгляд. Изучающий, брезгливый, удивленный взгляд постороннего, напряженно пытающегося понять, как могла женщина, лежащая рядом с ним, породить на свет такого отвратительного монстра.
Иногда она сама этому удивляется. Иногда она сама хочет уйти и никогда больше не возвращаться сюда. Но она мать. Мать. Это приговор…
– Пожалуйста, можно? – снова спросила Вика.
– Хорошо. Я освобожу тебе полки в шкафу.
Переходный возраст. «Просто переходный возраст, – уговаривала себя Марина, копаясь в мятом барахле, рассеянно осматривая и рассовывая по пакетам старые, в катышках, свитера и платья. – В этом возрасте часто нарушается обмен веществ. Отсюда и лишний вес, и угри…» Марина вдруг вспомнила ласкового, болтливого, шустрого мальчика, каким он когда-то был, и на секунду застыла, выронив из рук пакет, – так ярко и так остро было это воспоминание… Переходный возраст – он многое объясняет.
Но как объяснить эту странную, маниакальную боязнь свежего воздуха (зимой он вообще не разрешает проветривать квартиру), эту жуткую потребность в постоянной духоте? И как объяснить то, что он делает…
ест
что он делает с мухами? Сначала ей рассказала Вика, а потом она и сама видела, как он ищет на подоконнике и за батареей дохлых мух, складывает их на бумажку и
ест
уносит в детскую комнату.
Объясняется ли все это переходным возрастом?
* * *
Проводив детей в школу, она, как обычно, проветривала квартиру. Зашла в комнату сына (Максим теперь был единственным хозяином детской – Вика там больше не появлялась), настежь распахнула окно и направилась к выходу. Но, проходя мимо незастеленной кровати, вспомнила вдруг слова дочери: по его кровати кто-то ползает. Насекомые. Она подошла ближе, осторожно поворошила серое замусоленное одеяло. Вроде бы никого нет. Нафантазировала.
И все же – что-то было не так. То ли густой затхлый запах особенно усиливался рядом с кроватью, то ли слишком неестественно выглядела подушка: гладкая и тугая, она странно возвышалась над мятым несвежим бельем. Может быть… Марина осторожно взяла подушку за уголок и приподняла – ничего. Но… какая-то она тяжелая.
Марина пошарила под наволочкой. Пусто. И, уже вытаскивая руку, нащупала пальцами что-то… шов? застежку?.. Она быстро сдернула наволочку – в воздух поднялась волна гнилого запаха. На гладкой, в чайных разводах и неопределенных старых пятнах, поверхности красовался ровный длинный надрез; к нему с одной стороны толстыми синими нитками были пришиты пуговицы, с другой – из тех же ниток петли. Она расстегнула эти странные пуговицы, сунула руку внутрь, в мягкое месиво перьев, и громко вскрикнула. Пальцы погрузились в мокрое, скользкое, отвратительное.
Она выдернула руку, двумя резкими рывками разодрала ветхую подушечную ткань и уставилась на ее облепленные перьями внутренности. Это было… вероятно, когда-то, довольно давно, это было печеньем, вафлями, шоколадными батончиками. Теперь же превратилось в один липкий вонючий комок, в котором копошились – приветливо кивая черными слепыми головками – маленькие белые черви. (Однажды она уже видела таких. Она видела таких в детстве, в пионерском лагере: они завелись тумбочке у ее соседки, в привезенной из дому еде, которую та хранила весь месяц – не решаясь избавиться от протухших маминых гостинцев.)
«Что это? Запасы? – с ужасом подумала Марина. – Он обжирается сладким до тошноты, а то, что уже не может съесть, прячет в подушке? А может быть, и не только в подушке»?
Марина встала на четвереньки и заглянула под кровать. Сахар. Стройными рядами там стояли начатые упаковки с сахарным песком – вот почему сахар у нас так быстро кончается, – в некоторых виднелось лишь несколько крупинок на донышке, другие были заполнены наполовину. Господи. О господи. Что с ним такое? Что с ним?
Она выбросила все – запасы сахара, подушку, простыню и даже одеяло. Несколько раз вымыла пол.
Вечером он подошел к ней, тяжело переставляя толстые отекшие ноги, и тихо сказал:
– Ты. Рылась. В моих вещах.
– Максим, ты должен объяснить мне… – начала Марина.
– Ты. Отвечай.
– Как ты разговариваешь с матерью?!
– Ты. Рылась.
– Да, и очень правильно сделала, что рылась! Максим, ты должен понять, что я делаю это не по какому-то злому умыслу, а потому, что ты мой ребенок и я хочу тебе только…