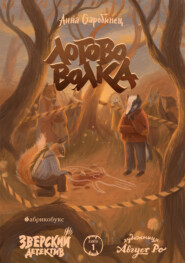По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лисьи броды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А вы правда ведь сделаете для товарища капитана все возможное, доктор? – с тревогой уточнил Пашка.
– А ты правда думаешь, что тебе будет лучше, если товарищ капитан моими стараниями выздоровеет?
– Так не в этом же дело, – растерянно сказал Пашка. – Это ж человек. Беспомощный. Ему надо помочь.
Глаша снова, словно насильно себя убеждая, подумала, что для нее этот Пашка – слишком простой. Он читает-то небось по складам. А она – генеральская дочка. Он простой, а оттого наивный и добрый. Рядом с ним просыпается совесть.
– Дядь Иржи… грех это, – сказала Аглая тихо.
– Что грех?! Спать? – изумился Новак.
Она молча кивнула на бледного, поверхностно и часто, по-собачьи дышавшего Шутова.
– Так не мы же его подстрелили! – доктор с досадой поднялся с кресла; сон, так мягко и приятно его было сморивший, теперь совсем улетучился. – Мы ничего дурного не делаем.
– Иногда бездействие – тоже грех, – почти прошептала Аглая. – Он и правда сейчас беспомощен.
Она знала, что лицо ее в свете керосиновой лампы одухотворенно светилось. Пашка бросил на нее восхищенный, собачий взгляд.
– Если нужно противоядие, вы же знаете, к кому надо идти, – добавила она совсем кротко.
– Это мы с тобой, Глаша, перед этим человеком беспомощны! – Новак принялся яростно набивать трубку.
– Не курили б вы тут, дядя Иржи. Пациенты все-таки…
– Он таких, как мы с тобой, не задумываясь к стенке поставит! Ты забыла, кто твой отец и мой лучший друг? Так я напомню. Белый генерал Петр Смирницкий!
– Ну и что? – встрял Пашка. – Она с отцом порвала за его антисоветские убеждения! И вот сказал же товарищ Сталин: сын за отца не в ответе! Я и сам из белоказачества происхожу – и ничего, не расстреляли. Наоборот – как есть боец Советской…
– Я знаю, кто мой отец, дядь Иржи, – игнорируя Пашку, сказала Глаша. – А еще я знаю, что вы клятву Гиппократа давали…
Новак хотел что-то возразить, но как-то вдруг весь разом обмяк и как будто сильно состарился. Изо рта свисала так и не зажженная трубка.
– Все так, Глашенька, – сказал он устало. – Все так. Мы по чести живем. А они пусть глотки друг другу грызут, – он неопределенно махнул рукой в сторону коек. – И в спину стреляют… Пойду беспомощному вашему помогать.
Над горизонтом криво размазались первые неуверенные разводы рассвета. Стоя у распахнутого окна, Аглая смотрела, как Новак, по-стариковски сутулясь, идет по утонувшей в стылом тумане брусчатке – как будто по палубе потерпевшего бедствие корабля. На противоположном конце площади красноармейцы из поисковой группы седлали коней. Она закрыла окно, но помещение уже насквозь пропиталось промозглой маньчжурской хмарью. Аглая взглянула на неподвижный силуэт особиста за ширмой и зябко поежилась. Зачем все это? Что на нее нашло? Зачем дядя Иржи пошел за помощью? Этот человек не заслуживает спасения, он опасен. Может быть, он даже участвовал в арестах в Харбине. Может быть, он арестовал и ее отца.
– Ты дрожишь, – Пашка накрыл ее плечи своей шинелью. – Замерзла?
– Знаешь, Пашечка. Я ведь даже не знаю, где сейчас папа. И жив ли. Если будут меня пытать и допрашивать – это все зря. Больше месяца от него нет вестей.
– Тебя не будут пытать, – напряженно ответил Пашка. – Я тебя в обиду не дам.
– Я вот думаю… – продолжила она, чуть покачиваясь из стороны в сторону и как будто не слыша, – а вдруг этот капитан на самом деле за мной пришел?
– Что ты, Глаш. Он здесь совсем по другому делу.
– Я просто чувствую, Пашенька, что за мной идет кто-то…
– А ты выходи за меня! – он с шутовской решимостью рухнул на одно колено, едва не своротив микроскоп. – Будешь не Смирницкая, а Овчаренко. Выслужусь в маршалы – и никто тебя не тронет.
– Пашка, ты клоун.
Она рассмеялась, как бы обозначая, что не отвергает его предложение, но просто знает, что слова его – не всерьез. Смех получился мелодичным, но немного искусственным, как будто включили запись на грампластинке.
– Я простоват для тебя, да, Глаш? – отозвался он без обиды, но и не принимая ее великодушной игры. – Ты генеральская дочка, а я – никто.
– Ну что ты, Пашенька.
Она погладила его по доверчивой большой голове – и вдруг зачем-то поцеловала в макушку. Пашкины волосы пахли дождем и рисом и были неожиданно жесткими. Как шерсть у овчарки, повалявшейся на мокром рисовом поле.
Глава 16
Московская область. Спецшкола-интернат ГПУ. 1923 г.
…Сразу после удара наступает милосердное, освобождающее ничто: только тьма и безмолвие. Но это длится недолго. Первой возвращается боль. Пульсируя в такт биению сердца, боль выхлестывает из того места на затылке, куда пришелся удар бильярдного кия. Вслед за болью возвращаются звуки. Сначала мне кажется, что по ту сторону тьмы кричит, свистит и рукоплещет огромный зал. Спустя секунду я понимаю, что это гремит в ушах моя кровь, а там, снаружи, – голоса и гогот моих мучителей, Фили и его шайки. Мне четырнадцать, а им по шестнадцать, я один, а их четверо.
– Чо скулишь, гаденыш? Ты глиста буржуйская – или красный воин?
Один из них хватает меня под мышки и рывком ставит на ноги. Я не вижу кто. Но точно не Филя, он обычно стоит в стороне и рук не марает. Почему темно?.. Я пугаюсь, что зрение не вернется, трясу головой, и холстина трется о мою щеку, и тогда я, наконец, вспоминаю, что на голову мою накинут глухой мешок. Это часть «тренировки» по придуманным Филей правилам. Они ловят меня, нахлобучивают мешок, волокут в подвал интерната, где когда-то была бильярдная, берут кии и мне тоже дают один. Моя задача – отбиваться от них вслепую. Если я, конечно, боец, а не какое-то там ссыкло белопогонное, недобитое. А если ссыкло, «тренировку» можно прервать одним способом – встать на колени.
– Ну чо, Кронин, продолжим? – Филя брезгливо и совсем легонько тычет меня острым концом кия под ребра, будто проверяя, не сдохло ли насекомое. – Или все-таки на колени?
Я молчу. Через непроницаемую холстину мешка я не вижу, но чувствую, как Филя откладывает кий и делает им знак: приступайте. Я сжимаю свой кий и встаю в боевую стойку. Я пытаюсь ориентироваться по звуку – но все звуки тонут в их дружном гоготе. Один бьет меня кием в спину, другой в живот.
Мне четырнадцать, а им по шестнадцать, я один, а их четверо, я всхлипываю, а они смеются, но они меня почему-то боятся.
– Для чего ты здесь, среди нас, а, гнида буржуйская? Чтоб за нами шпионить?
Я молчу и слепо размахиваю в воздухе кием. И на долю секунды мне кажется, что я сейчас не с ними, не здесь. Что с тех пор прошли годы, столько лет, что я успел позабыть, для чего я был среди них. Я не помню, кто и зачем меня к ним привел. Помню только, что тренировки закончились плохо, очень плохо для Фили…
– …А давайте ему юху из носа пустим? Если голубая – значит, точно белогвардейский пащенок! А будет красная – значит, не все потеряно!
Кто-то бьет меня в нос. Из-под мешка мне на грудь стекают сопли и слюни с кровью.
– Зырьте, красная! – комментируют с деланым удивлением.
Они, конечно, видели мою кровь много раз. Но им нужен предлог, чтобы не забить меня до смерти.
– Дайте кий, – важно говорит Филя, и я чувствую, как стая почтительно уступает место рядом со мной вожаку.
Он заходит сзади и с размаху подбивает мне голени – я падаю на колени. Но я знаю, что они знают: я не сдался, это не их победа.
– Не боец ты, Кронин, – удовлетворенно говорит Филя. – Завтра повторим тренировку.
Я не хочу их видеть, когда рассеется тьма. Я жду, пока они уйдут из подвала. И только потом, когда стихают шаги, сажусь на корточки и начинаю реветь в голос и распутывать веревку, которой примотан к шее мешок. Руки трясутся, я дергаю веревку так, что она только сильнее затягивается. И вдруг ощущаю, что рядом со мной кто-то есть. Я точно знаю, что Филя и его шакалы ушли, но через пропитанный соплями и кровью мешок в меня впивается холодный, свинцовый взгляд. Я замираю. Секунду спустя мне на затылок ложится чья-то рука. И кто-то гладит меня через мешок – сочувственно, по-отечески.
Я плачу – но теперь уже не от боли, а оттого, что не в состоянии вспомнить, чья это рука, такая родная и сильная, меня утешает. Я как слепая собака, которая чует по запаху, что рядом хозяин, и захлебывается от желания лизнуть его пальцы. Я кричу ему: