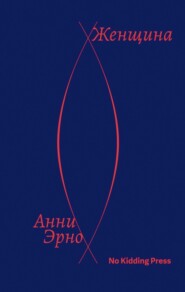По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Врожденного слабоумия не боялись. Страшились буйного помешательства, потому что оно случается внезапно, непонятно от чего, с нормальным человеком.
Нечеткий, надорванный снимок девочки, стоящей у перил, на мосту. У нее короткие волосы, худенькие бедра и острые коленки. Из-за солнца она прикрыла ладонью глаза. Она смеется. На обороте надпись: «Жинетта, 1937». На ее могиле: «Умерла шести лет от роду в чистый четверг 1938 г.» Это старшая сестра той девочки, что стояла на пляже в Сотвиль-сюр-Мер.
Мальчики и девочки повсюду существуют раздельно. Мальчишки, существа шумные, не знающие слез, вечно что-то швыряющие – камни, каштаны, хлопушки, снежки, – ругались матом и читали «Тарзана» и «Биби Фрикотена». Девочки боялись их и получали строгие наставления никогда не вести себя как мальчишки, играть в тихие игры: хороводы, классики, колечко. Зимой по четвергам девочки учительствовали перед разложенными на кухонном столе старыми пуговицами или фигурками, вырезанными из журнала «Эхо моды». Поощряемые матерями и школой, девочки наушничали и доносили – любимая угроза: «Я все скажу!» Окликая друг друга, говорили: «Эй, как тебя там!», подслушивали и с пришепетываниями, прикрывая рот рукой, пересказывали неприличные истории, про себя хихикали над святой Марией Горетти[11 - Итальянская девушка, святая, погибла от ран в борьбе с насильником, беатифицирована в 1950 г.], которая умерла, но не сделала с парнем то самое, что им самим так хотелось поскорей изведать, ужасались собственной испорченности, неведомой взрослым. Мечтали, что вырастет грудь и волосы где надо, а в трусах появится тряпица с кровью. А пока читали комиксы про Бекассину, «Серебряные коньки», «В семье»[12 - Так в ориг. тексте.] Гектора Мало, ходили с классом в кино на «Месье Венсана», «Большой цирк» и «Битву на рельсах» – фильмы духоподъемные, воспитывающие мужество и прогоняющие дурные мысли. Но про себя понимали, что правда и будущее – в фильмах с Мартин Кароль[13 - Актриса французского театра и кино 1950-х годов, звезда фильмов «Пляж», «Лола Монтес», «Француженка и любовь» и др.], в газетах, чьи названия – «Вдвоем», «Тайны личной жизни» – сулили желанное и запретное бесстыдство.
Новостройки вырастали из-под земли под развороты и скрежет строительных кранов. Нормирование продуктов отменили, стали появляться новинки – с интервалами, достаточными для того, чтобы встретить их радостным удивлением, оценить пользу и обсудить в беседах. Они возникали как по волшебству – невиданные, непредсказуемые. Для всех и на любой вкус: шариковая ручка Bic, шампунь в подушечках, тисненая клеенка Bulgomme, виниловый линолеум Gerflex, гигиенические тампоны Tampax и крем для устранения ненужной растительности, пластик Gilac, лавсан, лампы дневного света, молочный шоколад с орехами, масло для загара Vеlosolex и зубная паста с хлорофиллом. Поражало, сколько времени можно сэкономить благодаря пакетикам «быстросупа», скороварке и готовому майонезу в тюбике; консервы казались вкуснее свежих продуктов, консервированные груши в сахарном сиропе выглядели шикарней свежих, горошек в банке – вкуснее горошка с грядки. Все больше внимания уделялось «усваиваемости» продуктов организмом, содержанию витаминов и «сохранению фигуры». Всех восхищали изобретения, которые словно отменяли века привычных жестов и усилий, открывали то время, когда, как считали некоторые, вообще ничего не надо будет делать. Другие спорили: стиральная машина-де протирает белье до дыр, а телевидение – портит глаза и не дает спать до непонятно какого часа. Появление у соседей этих знаков прогресса, маркеров социального восхождения, отслеживалось и вызывало зависть. В городе парни постарше разъезжали на «веспах», выписывали круги возле девушек. Потом, гордо выпрямившись в седле, увозили одну из них, и она в платочке, завязанном под подбородком, обнимала его за талию, чтобы не свалиться. Хотелось разом стать на три года старше – глядя, как они с грохотом исчезают в конце улицы.
Реклама с непререкаемым энтузиазмом вдалбливала достоинства вещей: «Мебель фирмы «Левитан» – удовольствия фонтан!», «Шантель» – комбинация, которая не скатывается!», «Растительное масло «Лезьер» – экономия триста процентов!» Она расхваливала их то весело – «Доп-доп-доп, выбирайте шампунь «Доп»!», «Колгейт-колгейт», зубы чище и белей», – то мечтательно – «Счастье входит в дом вместе с Elle», – она мурлыкала голосом Луиса Мариано: «Бюстгальтер «Лу» женщине к лицу». Пока мы делали уроки, сидя за кухонным столом, рекламные ролики «Радио Люксембург», чередуясь с песнями, транслировали нам уверенность в будущем счастье: прекрасные вещи пока отсутствовали, но в будущем они непременно станут нашими. В ожидании помады Baiser и духов Bourjois («Радость с самого утра»), мы собирали пластиковых зверюшек из пакетов с кофе, наклейки с баснями Лафонтена из упаковок шоколада «Менье» и обменивались ими на переменах.
Нам хватало времени, чтобы по-настоящему захотеть что-то: пластиковую косметичку, туфли на тряпичной подошве, золотые часы. Обретенных вещей хватало надолго. Их показывали другим, давали потрогать. Они хранили загадку и магию, которые не исчезали в процессе разглядывания или использования. Вертя вещи так и этак, люди ждали от них чего-то и после того, как становились их владельцами.
Прогресс был пределом человеческих устремлений. Он означал комфорт, здоровье детей, чистые дома и освещенные улицы, науку – все, что так разительно отличалось от мрака деревенской жизни и войны. Он был в пластмассе и покрытии Formica, в антибиотиках и выплатах по больничному листу, в воде, текущей из кухонного крана, и мусоропроводе, в летнем лагере, в возможности продолжать учебу и в атоме. «Надо идти в ногу со временем», – говорили по любому поводу, словно подтверждая собственную смекалку и широту взглядов. Темы сочинений в четвертом классе предлагали подумать о «пользе электричества» или опровергнуть «того, кто в вашем присутствии критикует современный мир». Родители говорили: «Молодежь-то будет поумнее нас».
А в реальности из-за нехватки и тесноты жилья дети и родители, братья и сестры спали в одной комнате, мылись все по-прежнему в тазу, нужду справляли на дворе, гигиенические прокладки шили из кусков махровой ткани и после использования отмачивали в холодной воде. Детские простуды и бронхиты лечили горчичниками. Родители принимали от гриппа аспирин с горячим вином. Мужчины средь бела дня мочились возле забора, к долгой учебе люди относились с опаской, как к желанию прыгнуть выше головы, за которым последует неведомая расплата: ум за разум зайдет. У всех во рту не хватало одного-двух зубов. «Не все живут одинаково», – говорили люди.
Порядок дней оставался незыблемым и размечался возвратом одних и тех же развлечений, которые не поспевали за обилием и новизной вещей. С приходом весны снова наступала пора первого причастия, праздника молодежи и приходской ярмарки, приезжал цирк шапито «Пиндер»: во время циркового шествия слоны разом загромождали улицу огромными серыми тушами. В июле начинался «Тур де Франс», за которым следили по радио, вклеивали в тетрадку газетные вырезки с фотографиями Джеминиани, Дарригада и Копи. Осенью появлялись карусели и киоски передвижного парка аттракционов. Надо было наездиться на год вперед на электрических машинках автодрома под щелканье и искры металлических приводов, под голос из репродуктора: «А ну, молодежь! Поднажмем! Газуем!» На эстраде, где разыгрывали лотерею, все тот же парень с фальшивым красным носом изображал Бурвиля, и не по погоде декольтированная женщина все зазывала посмотреть спектакль, суля невероятно знойную атмосферу: «Как в «Фоли-Бержер» между полуночью и двумя часами утра», – дети до 16-ти не допускались. Мы высматривали на лицах тех, кто осмелился пройти за штору и, осклабясь, выходил назад, – следы увиденного зрелища. В запахе сальной одежды и гнилой воды витал разврат.
Позднее наступит возраст, когда занавес балагана поднимется и для нас. На дощатой сцене без музыки вяло раскачивались в танце три женщины в бикини. Свет гас и зажигался снова: женщины стояли неподвижно, с голой грудью, лицом к редким зрителям – на гудроновом покрытии площади мэрии. Снаружи из динамика неслась песня Дарио Морено «Эй мамбо, мамбо италиано».
Религия была официальной канвой и рамкой жизни, она отмеряла ход времени. Газеты печатали рецепты постных блюд, «Почтовый календарь» отмечал все этапы поста от первого воскресенья до Пасхи. По пятницам люди не ели мясного. Воскресная служба, как и раньше, была поводом одеться во все чистое, показать обновку, выйти при шляпке, сумочке и перчатках, посмотреть на людей и показать себя, понаблюдать за церковными певчими. При этом для всех внешние параметры морали и вера в высший промысел выражались на особом языке – латыни. Еженедельно повторяя одни и те же молитвы из псалтыри, терпя ритуальную скуку проповеди, мы словно проходили обряд инициации, очищения перед особым удовольствием: съесть курицу и покупные пирожные, сходить в кино. То, что учителя и другие культурные люди с безупречным поведением могут ни во что не верить, казалось какой-то аномалией. Только религия питала нравственность, придавала человеку достоинство, без которого он жил бы как собака. Церковный закон стоял превыше всех других, и только церковь придавала легитимность важнейшим моментам человеческой жизни: «Брак, не освященный Церковью, не является подлинным браком», – гласил катехизис. Речь шла о вере католической, ибо остальные были ереси или просто бред. На переменках в школьном дворе дети вопили хором считалку: «Магомет пророк Аллаха, / На нем красная рубаха, / У него в руке орех, / Раздели орех на всех».
Первого причастия ждали с нетерпением, как торжественной прелюдии ко всем важным событиям жизни – месячным, школьному сертификату, переходу в шестой класс. Сидя на церковных скамьях, разделенные центральным проходом, парни в темных костюмах с повязками на рукаве и девочки в длинных платьях, под белыми накидками походили на новобрачных, которыми, соединясь попарно, они и станут лет через десять. И в один голос отчеканив на вечерне: «Да отрекусь я от дьявола и пребуду с Иисусом вовеки», можно было впредь обходиться без религии, но оставаться раз и навсегда посвященным в христиане, снабженным необходимым и достаточным багажом, дабы влиться в доминирующее сообщество и твердо знать, что после смерти точно что-то будет.
Все понимали, что можно и что нельзя, где Добро и Зло: система ценностей ясно считывалась на глаз. Маленькие девочки отличались одеждой от девочек-подростков, подростки – от девушек, девушки – от молодых женщин, матери – от бабушек, рабочие – от коммерсантов и чиновников. Богатые считали, что продавщицы и машинистки чересчур модничают: «Прямо всю зарплату на себя надела».
Государственные или частные, школы различались мало: то было место передачи незыблемого знания в обстановке тишины, порядка и почтения к старшим, абсолютного послушания: носить школьную блузу, выстраиваться по сигналу колокола, вставать при появлении директрисы, но не учителя-воспитателя, иметь положенные тетради, перья и карандаши, безропотно воспринимать замечания, зимой надевать рейтузы под юбку. Задавать вопросы имел право только преподаватель. Если мы не поняли какое-то слово или доказательство, – виноваты сами. Мы гордились ограничениями как привилегией, подчиняясь строгим правилами и замкнутому пространству. Школьная форма, обязательная в частных учебных заведениях, наглядно подтверждала их превосходство.
Программы не менялись: в шестом – «Лекарь поневоле» Мольера, в пятом – «Плутни Скапена» Мольера, «Челобитчики» Расина и «Бедные люди» Гюго, в четвертом – «Сид» Корнеля и т. д., не менялись и учебники: история Мале-Изака, география Деманжона, английский язык Карпантье. Этот набор знаний выдавался меньшинству, из года в год подтверждавшему свой ум и твердое намерение дойти от rosa-rosae[14 - Азы латинской грамматики – спряжение существительных женского рода первого склонения.] до корнелевского «Рим, ненавистный враг, виновник бед моих»[15 - Монолог Камиллы из пьесы Пьера Корнеля «Гораций». Перевод Н. Рыковой.], минуя теорему Шаля и тригонометрию, – а большинство тем временем продолжало решать задачки про поезда и совершенствовать устный счет, петь «Марсельезу» на устном экзамене на аттестат. Получить его или технический диплом было событием, которое отмечалось в газетах публикацией фамилий лауреатов. Не осилившие курс сразу чувствовали бремя осуждения, они были неспособными. Хвала образованию, звучавшая в каждой речи, маскировала узость его распространения.
Когда, просидев рядом всю начальную школу, мы встречали на улице одноклассницу, поступившую ученицей на производство или на курсы Пижье[16 - Курсы профессиональной подготовки для работы в области сервиса, торговли.], нам и в голову не приходило остановиться и заговорить с ней, – точно так же, как дочка нотариуса, чье превосходство над нами доказывал желтый загар, привезенный с горнолыжного курорта, – вне школы не удостаивала нас взглядом.
Труд, упорство и воля служили мерилом поступков. В конце учебного года, в день вручения наград, мы получали книги, славившие героизм пионеров авиации, военачальников и колонизаторов: Мермоза, Леклера, Латра де Тассиньи, Лиоте. Не забыто было и повседневное мужество: нам полагалось восхищаться отцом семейства – «покорителем будней» (Пеги), «смиренной жизнью, что полна / докучной и простой работы» (Верлен), комментировать в сочинениях мудрые мысли Дюамеля и Сент-Экзюпери, «примеры стойкости героев Корнеля», доказывать, что «любовь семейная учит любви к родине», а «работа гонит прочь три главных недуга – скуку, порок и нужду» (Вольтер). Мальчики читали газету «Доблесть», девушки – журнал «Отважные сердца».
Дабы утвердить молодежь в этом идеале и закалить ее физически, удержать от капканов праздности и оболванивающих занятий (чтение и кино), вырастить «хороших парней» и «славных девушек, честных и работящих», семьям рекомендовалось записывать детей в скаутские организации: «Волчата», «Пионеры», «Заводилы» и «Жаннетты», «Крестоносцы», «Добрые друзья» и «Подруги». Вечерами у костра или на рассветной лесной тропе, под воинственно реющим отрядным вымпелом, с речевкой «Йукайди-йукайда!» – ковался волшебный сплав природы, порядка и морали. С обложек «Католической жизни» и «Юманите» смотрели в будущее радостные лица. Эта здоровая молодежь, сыновья и дочери Франции, примет эстафету от старших братьев – борцов Сопротивления, – как заявил в своей пламенной речи президент Рене Коти в июле 54-го года на Вокзальной площади, глядя поверх голов учащихся, выстроенных по заведениям, – а в хмуром небе плыли белые тучи беспросветно дождливого лета.
За фасадом голубоглазой идеальной юности скрывалась – и мы это знали – неоформленная, хлябкая зона со своими словами и вещами, образами и поступками: матери-одиночки, проституция, афиши фильма «Дорогая Каролина», презервативы, загадочный рекламный анонс «интимная чистка, конфиденциальность гарантируем», обложки газеты «Леченье», «женщина способна к зачатию только три дня в месяц», внебрачные дети, развратное поведение, британка Дженет Маршалл, которую Робер Авриль задушил в лесу с помощью бюстгальтера, адюльтер, слова «лесбиянка», «педераст», «похоть»; грехи, в которых нельзя было признаваться на исповеди, выкидыш, дурная жизнь, запретные книги, «Это случилось в Шавильском лесу»[17 - Популярная в 1953 г. и впоследствии песня Пьера Дестая («Все потому, что в Шавильском лесу в мае цвели ландыши… у меня появится сын и хлебнет всего того, что выпало мне…»).], сожительство и так до бесконечности. Все, что нельзя было упоминать, – считалось, что об этом полагается знать лишь взрослым, – так или иначе связанное с половыми органами и их функционированием. Секс был в высшей степени подозрителен для общества, которое усматривало его следы повсюду: в декольте, узких юбках, красном лаке для ногтей, черном нижнем белье, бикини, совместном обучении мальчиков и девочек, мраке кинозалов, общественных туалетах, мускулах Тарзана, курящих женщинах, которые сидят нога на ногу, приглаживании волос во время урока и т. д. Он был первым критерием для оценки девушек, разделяя их на «приличных» и «гулящих». Тот же «Индекс моральной оценки» демонстрируемых фильмов, который вывешивался каждую неделю на дверях церкви, направлен был исключительно на борьбу с ним.
Но бдительность можно было обмануть, и все ходили смотреть фильмы «Манина снимает чадру», «Исступление плоти» с Франсуазой Арну. Нам хотелось быть похожими на их героинь, осмелиться вести себя как они. Между книгами, фильмами и жесткими нормами общества пролегала зона запрета и морального осуждения, и мы не имели права на самостоятельность.
В таких условиях бесконечно долго тянулись годы томления – вплоть до разрешения заняться сексом в браке. Приходилось жить с этой жаждой наслаждения, которое считалось уделом взрослых, но настойчиво требовало удовлетворения, несмотря на все попытки отвлечься и усердные молитвы, и необходимость хранить тайну, способную отправить в разряд извращенок, истеричек и шлюх.
В словаре «Ларусс» написано:
Онанизм – ряд способов искусственного достижения сексуального удовлетворения. О. часто приводит к серьезным осложнениям; следует пресекать его у детей в период полового созревания. Рекомендовано сочетанное применение брома, обливаний, гимнастики, физической нагрузки, горного воздуха, лечение препаратами железа и мышьяка.
Скрываясь от всевидящего ока общества, мы мастурбировали в кровати или в туалете.
Парни с гордостью шли в армию – считалось, что солдатская форма всякому к лицу. Получив повестку, они шли в кафе и проставлялись в честь дня, когда их признали настоящими мужчинами. До службы они были пацаны и не котировались на рынке труда и супружества. После нее – имели право завести жену и детей. Военная форма, которую они выгуливали по кварталу во время побывок, окружала их ореолом патриотической красоты и потенциального самопожертвования. Их осеняла тень бойцов армии победителей и американских десантников. Новенький колючий драп бушлата, когда мы целовали их, встав на цыпочки, являл неодолимую границу между миром мужчин и миром женщин. Глядя на них, мы чувствовали: вот они, герои.
Под слоем незыблемых вещей – прошлогодних цирковых афиш с портретами Роже Ланзака[18 - Певец, актер, телеведущий.], фотографий первого причастия, раздаваемых подружкам, клуба французской песни на «Радио Люксембург» – дни наполнялись новыми желаниями. По воскресеньям мы собирались толпой у витрины магазина электротоваров – смотреть телевизор. Ради привлечения посетителей владельцы кафе тратились на покупку телевизионного аппарата. По склону холма змеилась трасса мотогонок, и мы целыми днями следили, как оглушительные штуковины летают вверх и вниз. Коммерция с ее новыми слоганами – «инициатива» и «динамичность» – все нетерпеливей взнуздывала привычную городскую рутину. К летней ярмарке и предновогоднему базару добавился новый весенний ритуал – Декада торговли. В центре города из репродукторов неслись призывы что-то покупать вперемешку с песнями Анни Корди и Эдди Константина и обещания призов – машины «Симка» или столового гарнитура. Местный конферансье, стоя на эстраде на площади мэрии, развлекал публику репризами Роже Николя и Жана Ришара[19 - Популярные комические актеры.], зазывал всех желающих кидать кольца или играть в мгновенную лотерею, как на радио. В стороне восседала на подиуме Королева Коммерции с короной на голове. Под флагами праздника бодро продавался товар. Люди говорили «новая жизнь» или «нельзя сидеть сиднем – совсем отупеешь, корой зарастешь».
Какое-то непонятное веселье вдруг охватило молодежь из среднего класса, мы устраивали вечеринки, придумывали новый язык, говорили в каждой фразе «отстой», «супер», «круть» и «обалденно», для смеха имитировали великосветский акцент, играли в настольный футбол и называли родителей «предками». Ухмылялись, слыша Иветт Хорнер, Тино Росси и Бурвиля. Мы неосознанно искали кумиров своего возраста. Восхищались Жильбером Беко: на его концертах зрители ломали стулья. По радио слушали станцию «Европа-1», где передавали только музыку, песни и рекламу.
На черно-белой фотографии – две девочки на аллее парка стоят плечом к плечу, у обеих руки за спиной. На заднем плане – кусты и высокая кирпичная ограда, выше – небо с крупными белыми облаками. На обороте снимка: «Июль 1955, сады пансионата Сен-Мишель».
Девочка слева выше ростом, у нее светлые волосы, короткая стрижка с длинной челкой набок, светлое платье и носочки, лицо скрыто в тени. Справа – девушка с короткими и темными вьющимися волосами, на полном лице – очки, высокий лоб высвечен солнцем, одета в темный свитер с короткими рукавами, юбку в горошек. Обе в лодочках, у брюнетки они на босу ногу. Школьные передники они, наверно, сняли для фотографии.
Хотя в темноволосой девочке невозможно узнать ту, с косичками, что позировала на пляже, – она вполне могла вырасти и в блондинку, – но именно она, а не блондинка – и разум, заключенный в этом теле с его уникальной памятью, позволяет с точностью утверждать, что кудри этой девочки – результат перманента, который она после торжественного причастия ритуально повторяет каждый год в мае, что юбка ее перешита из прошлогоднего платья, которое стало мало, а свитер связала соседка. И только через восприятие и ощущения темноволосой девочки в очках четырнадцати с половиной лет этот текст может уловить и воскресить какой-то отблеск пятидесятых годов, поймать отражение, оставленное на экране индивидуальной памяти, историей коллективной.
Кроме лодочек, в наружности девочки нет ничего, что в то время было «принято носить» и что мы обнаружили бы в модных журналах и в магазинах больших городов: длинная юбка из шотландки ниже колена, черный свитер и крупный медальон, конский хвост с челкой, как у Одри Хепберн в «Римских каникулах». Снимок можно датировать и концом сороковых, и началом шестидесятых. На взгляд любого, кто родился после, – это просто старое фото, часть доисторического, относительно собственной истории, времени, где все предшествовавшие жизни спрессовываются. И все же свет, который лег сбоку на лицо девочки и на свитер с только наметившейся грудью, дает ощущение тепла июньского солнца в тот год, который ни историки, ни жившие тогда люди не спутают ни с одним другим – 1955-й.
Возможно, она не ощущает дистанции между собой и другими девочками класса – теми, с кем сфотографироваться вместе ей даже не придет в голову. Эта дистанция проявляется в развлечениях, в организации внешкольного времени, в общем жизненном укладе – и отделяет ее как от девочек «шикарных», так и от тех, кто уже работает в конторах или на производстве. Или она осознает эту дистанцию и не придает ей значения.
Она еще не бывала ни в Париже, до которого сто сорок километров, ни на одной вечеринке, у нее нет проигрывателя. Она делает домашние задания под песни из радиоприемника, слова переписывает в тетрадку и прокручивает у себя в голове целый день – на ходу или сидя на уроках: «Ты говорил, говорил, что ты любишь лишь меня, почему под дождем я теперь стою одна».
Она не общается с парнями, но думает о них постоянно. Ей хочется, чтоб можно было накрасить губы, надеть чулки и туфли на высоких каблуках – носков она стесняется и снимает их, выйдя из дома, – чтобы показать, что она перешла в ту категорию девушек, на которых оглядываются на улице. Для этого в воскресенье после мессы она «шатается» по городу в компании двух-трех подружек, тоже «из простых», всегда стараясь не преступить строгий материнский закон «положенного времени» («Я сказала быть во столько-то – значит быть во столько-то, и ни минутой позже»). Общий запрет на развлечения она компенсирует чтением газетных романов с продолжениями: «Люди из Могадора», «Чтобы не умирали», «Кузина Рашель», «Цитадель». Она постоянно придумывает для себя какие-то вымышленные истории и любовные встречи, которые вечером под одеялом заканчиваются оргазмом. В мечтах она видит себя настоящей шлюхой, и еще она завидует блондинке с фотографии, другим девочками из класса на год старше – ей, потеющей от смущения, до них далеко. Она хочет стать как они.
Она посмотрела в кино фильмы «Дорога», «Расстрига», «Гордецы», «Муссон», «Красавица из Кадиса». Количество фильмов, которые ей смотреть нельзя, но хочется – «Дети любви», «Ранние всходы», «Ночные подруги» и т. д. – гораздо больше, чем разрешенных.
(Ездить в центр, жить мечтами, удовлетворять себя самой и ждать – так можно резюмировать юность в провинции.)
Что она узнала о мире, помимо школьных знаний, накопленных вплоть до четвертого[20 - Во Франции классы считаются в обратном порядке, самые старшие классы – второй, первый и заключительный. Четвертый класс соответствует возрасту в 13 лет.] класса, какие события и факты оставили в ней след, который позже, при случайном упоминании в чьей-то фразе, позволит сказать «я помню»?
Крупная забастовка на железной дороге летом 53-го года
падение Дьенбьенфу[21 - Осада и капитуляция французских войск, решающая операция 1-й Индокитайской войны.]
смерть Сталина, объявленная по радио холодным мартовским утром, как раз перед выходом в школу
ученики младших классов, идущие парами в столовую пить молоко по указу Мендес-Франса[22 - Пьер Мендес-Франс – французский политический и государственный деятель, радикал, социалист, левоцентрист.]
лоскутный плед, связанный по кусочку всеми ученицами и отправленный аббату Пьеру[23 - Аббат Пьер, в миру – Анри Антуан Груэ – популярнейший католический священник, проповедник, публицист, участник Сопротивления, организатор масштабных кампаний помощи бездомным и социально не защищенным.], чья борода – повод для сальных шуточек
массовая вакцинация всего городка от ветряной оспы, проводимая в мэрии, потому что в городе Ванн от этой болезни умерло несколько человек
наводнения в Голландии.
Наверняка нет в ее мыслях тех солдат, что недавно стали жертвой коварного нападения в Алжире. Это новый эпизод беспорядков, про которые она только позже узнает, что все началось в День всех святых 1954 года, и вспомнит дату и себя, сидящую у окна, с ногами на кровати, глядящую на гостей из дома напротив, которые по очереди выходят в сад облегчиться возле глухой стенки, – так что она не забудет ни дату алжирского восстания, ни этот вечер Дня всех святых, от которого останется четкая картинка, как бы чистый факт – молодая женщина устраивается на корточках в траве, а потом встает, одергивая юбку.
В той же потаенной памяти, то есть памяти о том, что немыслимо, стыдно или глупо выражать словами, хранится:
коричневое пятно на простыне, которую мать унаследовала от бабушки, умершей три года назад, – пятно несмываемое, которое притягивает ее и вызывает резкое отвращение, словно оно живое
ссора между родителями, в воскресенье перед переводным экзаменом в шестой класс, когда отец хотел прикончить мать и стал волочь ее в подвал к дубовой колоде, куда был воткнут серп
воспоминание, которое возникает ежедневно на улице по дороге в школу, когда проходишь мимо насыпи, где она видела январским утром два года назад, как девочка в коротком пальто для смеха сунула ногу в раскисшую глину. Отпечаток застыл и был виден назавтра и еще несколько месяцев спустя.
Летние каникулы будут долгой полосой скуки, каких-то микроскопических занятий, чтобы заполнить день:
Нечеткий, надорванный снимок девочки, стоящей у перил, на мосту. У нее короткие волосы, худенькие бедра и острые коленки. Из-за солнца она прикрыла ладонью глаза. Она смеется. На обороте надпись: «Жинетта, 1937». На ее могиле: «Умерла шести лет от роду в чистый четверг 1938 г.» Это старшая сестра той девочки, что стояла на пляже в Сотвиль-сюр-Мер.
Мальчики и девочки повсюду существуют раздельно. Мальчишки, существа шумные, не знающие слез, вечно что-то швыряющие – камни, каштаны, хлопушки, снежки, – ругались матом и читали «Тарзана» и «Биби Фрикотена». Девочки боялись их и получали строгие наставления никогда не вести себя как мальчишки, играть в тихие игры: хороводы, классики, колечко. Зимой по четвергам девочки учительствовали перед разложенными на кухонном столе старыми пуговицами или фигурками, вырезанными из журнала «Эхо моды». Поощряемые матерями и школой, девочки наушничали и доносили – любимая угроза: «Я все скажу!» Окликая друг друга, говорили: «Эй, как тебя там!», подслушивали и с пришепетываниями, прикрывая рот рукой, пересказывали неприличные истории, про себя хихикали над святой Марией Горетти[11 - Итальянская девушка, святая, погибла от ран в борьбе с насильником, беатифицирована в 1950 г.], которая умерла, но не сделала с парнем то самое, что им самим так хотелось поскорей изведать, ужасались собственной испорченности, неведомой взрослым. Мечтали, что вырастет грудь и волосы где надо, а в трусах появится тряпица с кровью. А пока читали комиксы про Бекассину, «Серебряные коньки», «В семье»[12 - Так в ориг. тексте.] Гектора Мало, ходили с классом в кино на «Месье Венсана», «Большой цирк» и «Битву на рельсах» – фильмы духоподъемные, воспитывающие мужество и прогоняющие дурные мысли. Но про себя понимали, что правда и будущее – в фильмах с Мартин Кароль[13 - Актриса французского театра и кино 1950-х годов, звезда фильмов «Пляж», «Лола Монтес», «Француженка и любовь» и др.], в газетах, чьи названия – «Вдвоем», «Тайны личной жизни» – сулили желанное и запретное бесстыдство.
Новостройки вырастали из-под земли под развороты и скрежет строительных кранов. Нормирование продуктов отменили, стали появляться новинки – с интервалами, достаточными для того, чтобы встретить их радостным удивлением, оценить пользу и обсудить в беседах. Они возникали как по волшебству – невиданные, непредсказуемые. Для всех и на любой вкус: шариковая ручка Bic, шампунь в подушечках, тисненая клеенка Bulgomme, виниловый линолеум Gerflex, гигиенические тампоны Tampax и крем для устранения ненужной растительности, пластик Gilac, лавсан, лампы дневного света, молочный шоколад с орехами, масло для загара Vеlosolex и зубная паста с хлорофиллом. Поражало, сколько времени можно сэкономить благодаря пакетикам «быстросупа», скороварке и готовому майонезу в тюбике; консервы казались вкуснее свежих продуктов, консервированные груши в сахарном сиропе выглядели шикарней свежих, горошек в банке – вкуснее горошка с грядки. Все больше внимания уделялось «усваиваемости» продуктов организмом, содержанию витаминов и «сохранению фигуры». Всех восхищали изобретения, которые словно отменяли века привычных жестов и усилий, открывали то время, когда, как считали некоторые, вообще ничего не надо будет делать. Другие спорили: стиральная машина-де протирает белье до дыр, а телевидение – портит глаза и не дает спать до непонятно какого часа. Появление у соседей этих знаков прогресса, маркеров социального восхождения, отслеживалось и вызывало зависть. В городе парни постарше разъезжали на «веспах», выписывали круги возле девушек. Потом, гордо выпрямившись в седле, увозили одну из них, и она в платочке, завязанном под подбородком, обнимала его за талию, чтобы не свалиться. Хотелось разом стать на три года старше – глядя, как они с грохотом исчезают в конце улицы.
Реклама с непререкаемым энтузиазмом вдалбливала достоинства вещей: «Мебель фирмы «Левитан» – удовольствия фонтан!», «Шантель» – комбинация, которая не скатывается!», «Растительное масло «Лезьер» – экономия триста процентов!» Она расхваливала их то весело – «Доп-доп-доп, выбирайте шампунь «Доп»!», «Колгейт-колгейт», зубы чище и белей», – то мечтательно – «Счастье входит в дом вместе с Elle», – она мурлыкала голосом Луиса Мариано: «Бюстгальтер «Лу» женщине к лицу». Пока мы делали уроки, сидя за кухонным столом, рекламные ролики «Радио Люксембург», чередуясь с песнями, транслировали нам уверенность в будущем счастье: прекрасные вещи пока отсутствовали, но в будущем они непременно станут нашими. В ожидании помады Baiser и духов Bourjois («Радость с самого утра»), мы собирали пластиковых зверюшек из пакетов с кофе, наклейки с баснями Лафонтена из упаковок шоколада «Менье» и обменивались ими на переменах.
Нам хватало времени, чтобы по-настоящему захотеть что-то: пластиковую косметичку, туфли на тряпичной подошве, золотые часы. Обретенных вещей хватало надолго. Их показывали другим, давали потрогать. Они хранили загадку и магию, которые не исчезали в процессе разглядывания или использования. Вертя вещи так и этак, люди ждали от них чего-то и после того, как становились их владельцами.
Прогресс был пределом человеческих устремлений. Он означал комфорт, здоровье детей, чистые дома и освещенные улицы, науку – все, что так разительно отличалось от мрака деревенской жизни и войны. Он был в пластмассе и покрытии Formica, в антибиотиках и выплатах по больничному листу, в воде, текущей из кухонного крана, и мусоропроводе, в летнем лагере, в возможности продолжать учебу и в атоме. «Надо идти в ногу со временем», – говорили по любому поводу, словно подтверждая собственную смекалку и широту взглядов. Темы сочинений в четвертом классе предлагали подумать о «пользе электричества» или опровергнуть «того, кто в вашем присутствии критикует современный мир». Родители говорили: «Молодежь-то будет поумнее нас».
А в реальности из-за нехватки и тесноты жилья дети и родители, братья и сестры спали в одной комнате, мылись все по-прежнему в тазу, нужду справляли на дворе, гигиенические прокладки шили из кусков махровой ткани и после использования отмачивали в холодной воде. Детские простуды и бронхиты лечили горчичниками. Родители принимали от гриппа аспирин с горячим вином. Мужчины средь бела дня мочились возле забора, к долгой учебе люди относились с опаской, как к желанию прыгнуть выше головы, за которым последует неведомая расплата: ум за разум зайдет. У всех во рту не хватало одного-двух зубов. «Не все живут одинаково», – говорили люди.
Порядок дней оставался незыблемым и размечался возвратом одних и тех же развлечений, которые не поспевали за обилием и новизной вещей. С приходом весны снова наступала пора первого причастия, праздника молодежи и приходской ярмарки, приезжал цирк шапито «Пиндер»: во время циркового шествия слоны разом загромождали улицу огромными серыми тушами. В июле начинался «Тур де Франс», за которым следили по радио, вклеивали в тетрадку газетные вырезки с фотографиями Джеминиани, Дарригада и Копи. Осенью появлялись карусели и киоски передвижного парка аттракционов. Надо было наездиться на год вперед на электрических машинках автодрома под щелканье и искры металлических приводов, под голос из репродуктора: «А ну, молодежь! Поднажмем! Газуем!» На эстраде, где разыгрывали лотерею, все тот же парень с фальшивым красным носом изображал Бурвиля, и не по погоде декольтированная женщина все зазывала посмотреть спектакль, суля невероятно знойную атмосферу: «Как в «Фоли-Бержер» между полуночью и двумя часами утра», – дети до 16-ти не допускались. Мы высматривали на лицах тех, кто осмелился пройти за штору и, осклабясь, выходил назад, – следы увиденного зрелища. В запахе сальной одежды и гнилой воды витал разврат.
Позднее наступит возраст, когда занавес балагана поднимется и для нас. На дощатой сцене без музыки вяло раскачивались в танце три женщины в бикини. Свет гас и зажигался снова: женщины стояли неподвижно, с голой грудью, лицом к редким зрителям – на гудроновом покрытии площади мэрии. Снаружи из динамика неслась песня Дарио Морено «Эй мамбо, мамбо италиано».
Религия была официальной канвой и рамкой жизни, она отмеряла ход времени. Газеты печатали рецепты постных блюд, «Почтовый календарь» отмечал все этапы поста от первого воскресенья до Пасхи. По пятницам люди не ели мясного. Воскресная служба, как и раньше, была поводом одеться во все чистое, показать обновку, выйти при шляпке, сумочке и перчатках, посмотреть на людей и показать себя, понаблюдать за церковными певчими. При этом для всех внешние параметры морали и вера в высший промысел выражались на особом языке – латыни. Еженедельно повторяя одни и те же молитвы из псалтыри, терпя ритуальную скуку проповеди, мы словно проходили обряд инициации, очищения перед особым удовольствием: съесть курицу и покупные пирожные, сходить в кино. То, что учителя и другие культурные люди с безупречным поведением могут ни во что не верить, казалось какой-то аномалией. Только религия питала нравственность, придавала человеку достоинство, без которого он жил бы как собака. Церковный закон стоял превыше всех других, и только церковь придавала легитимность важнейшим моментам человеческой жизни: «Брак, не освященный Церковью, не является подлинным браком», – гласил катехизис. Речь шла о вере католической, ибо остальные были ереси или просто бред. На переменках в школьном дворе дети вопили хором считалку: «Магомет пророк Аллаха, / На нем красная рубаха, / У него в руке орех, / Раздели орех на всех».
Первого причастия ждали с нетерпением, как торжественной прелюдии ко всем важным событиям жизни – месячным, школьному сертификату, переходу в шестой класс. Сидя на церковных скамьях, разделенные центральным проходом, парни в темных костюмах с повязками на рукаве и девочки в длинных платьях, под белыми накидками походили на новобрачных, которыми, соединясь попарно, они и станут лет через десять. И в один голос отчеканив на вечерне: «Да отрекусь я от дьявола и пребуду с Иисусом вовеки», можно было впредь обходиться без религии, но оставаться раз и навсегда посвященным в христиане, снабженным необходимым и достаточным багажом, дабы влиться в доминирующее сообщество и твердо знать, что после смерти точно что-то будет.
Все понимали, что можно и что нельзя, где Добро и Зло: система ценностей ясно считывалась на глаз. Маленькие девочки отличались одеждой от девочек-подростков, подростки – от девушек, девушки – от молодых женщин, матери – от бабушек, рабочие – от коммерсантов и чиновников. Богатые считали, что продавщицы и машинистки чересчур модничают: «Прямо всю зарплату на себя надела».
Государственные или частные, школы различались мало: то было место передачи незыблемого знания в обстановке тишины, порядка и почтения к старшим, абсолютного послушания: носить школьную блузу, выстраиваться по сигналу колокола, вставать при появлении директрисы, но не учителя-воспитателя, иметь положенные тетради, перья и карандаши, безропотно воспринимать замечания, зимой надевать рейтузы под юбку. Задавать вопросы имел право только преподаватель. Если мы не поняли какое-то слово или доказательство, – виноваты сами. Мы гордились ограничениями как привилегией, подчиняясь строгим правилами и замкнутому пространству. Школьная форма, обязательная в частных учебных заведениях, наглядно подтверждала их превосходство.
Программы не менялись: в шестом – «Лекарь поневоле» Мольера, в пятом – «Плутни Скапена» Мольера, «Челобитчики» Расина и «Бедные люди» Гюго, в четвертом – «Сид» Корнеля и т. д., не менялись и учебники: история Мале-Изака, география Деманжона, английский язык Карпантье. Этот набор знаний выдавался меньшинству, из года в год подтверждавшему свой ум и твердое намерение дойти от rosa-rosae[14 - Азы латинской грамматики – спряжение существительных женского рода первого склонения.] до корнелевского «Рим, ненавистный враг, виновник бед моих»[15 - Монолог Камиллы из пьесы Пьера Корнеля «Гораций». Перевод Н. Рыковой.], минуя теорему Шаля и тригонометрию, – а большинство тем временем продолжало решать задачки про поезда и совершенствовать устный счет, петь «Марсельезу» на устном экзамене на аттестат. Получить его или технический диплом было событием, которое отмечалось в газетах публикацией фамилий лауреатов. Не осилившие курс сразу чувствовали бремя осуждения, они были неспособными. Хвала образованию, звучавшая в каждой речи, маскировала узость его распространения.
Когда, просидев рядом всю начальную школу, мы встречали на улице одноклассницу, поступившую ученицей на производство или на курсы Пижье[16 - Курсы профессиональной подготовки для работы в области сервиса, торговли.], нам и в голову не приходило остановиться и заговорить с ней, – точно так же, как дочка нотариуса, чье превосходство над нами доказывал желтый загар, привезенный с горнолыжного курорта, – вне школы не удостаивала нас взглядом.
Труд, упорство и воля служили мерилом поступков. В конце учебного года, в день вручения наград, мы получали книги, славившие героизм пионеров авиации, военачальников и колонизаторов: Мермоза, Леклера, Латра де Тассиньи, Лиоте. Не забыто было и повседневное мужество: нам полагалось восхищаться отцом семейства – «покорителем будней» (Пеги), «смиренной жизнью, что полна / докучной и простой работы» (Верлен), комментировать в сочинениях мудрые мысли Дюамеля и Сент-Экзюпери, «примеры стойкости героев Корнеля», доказывать, что «любовь семейная учит любви к родине», а «работа гонит прочь три главных недуга – скуку, порок и нужду» (Вольтер). Мальчики читали газету «Доблесть», девушки – журнал «Отважные сердца».
Дабы утвердить молодежь в этом идеале и закалить ее физически, удержать от капканов праздности и оболванивающих занятий (чтение и кино), вырастить «хороших парней» и «славных девушек, честных и работящих», семьям рекомендовалось записывать детей в скаутские организации: «Волчата», «Пионеры», «Заводилы» и «Жаннетты», «Крестоносцы», «Добрые друзья» и «Подруги». Вечерами у костра или на рассветной лесной тропе, под воинственно реющим отрядным вымпелом, с речевкой «Йукайди-йукайда!» – ковался волшебный сплав природы, порядка и морали. С обложек «Католической жизни» и «Юманите» смотрели в будущее радостные лица. Эта здоровая молодежь, сыновья и дочери Франции, примет эстафету от старших братьев – борцов Сопротивления, – как заявил в своей пламенной речи президент Рене Коти в июле 54-го года на Вокзальной площади, глядя поверх голов учащихся, выстроенных по заведениям, – а в хмуром небе плыли белые тучи беспросветно дождливого лета.
За фасадом голубоглазой идеальной юности скрывалась – и мы это знали – неоформленная, хлябкая зона со своими словами и вещами, образами и поступками: матери-одиночки, проституция, афиши фильма «Дорогая Каролина», презервативы, загадочный рекламный анонс «интимная чистка, конфиденциальность гарантируем», обложки газеты «Леченье», «женщина способна к зачатию только три дня в месяц», внебрачные дети, развратное поведение, британка Дженет Маршалл, которую Робер Авриль задушил в лесу с помощью бюстгальтера, адюльтер, слова «лесбиянка», «педераст», «похоть»; грехи, в которых нельзя было признаваться на исповеди, выкидыш, дурная жизнь, запретные книги, «Это случилось в Шавильском лесу»[17 - Популярная в 1953 г. и впоследствии песня Пьера Дестая («Все потому, что в Шавильском лесу в мае цвели ландыши… у меня появится сын и хлебнет всего того, что выпало мне…»).], сожительство и так до бесконечности. Все, что нельзя было упоминать, – считалось, что об этом полагается знать лишь взрослым, – так или иначе связанное с половыми органами и их функционированием. Секс был в высшей степени подозрителен для общества, которое усматривало его следы повсюду: в декольте, узких юбках, красном лаке для ногтей, черном нижнем белье, бикини, совместном обучении мальчиков и девочек, мраке кинозалов, общественных туалетах, мускулах Тарзана, курящих женщинах, которые сидят нога на ногу, приглаживании волос во время урока и т. д. Он был первым критерием для оценки девушек, разделяя их на «приличных» и «гулящих». Тот же «Индекс моральной оценки» демонстрируемых фильмов, который вывешивался каждую неделю на дверях церкви, направлен был исключительно на борьбу с ним.
Но бдительность можно было обмануть, и все ходили смотреть фильмы «Манина снимает чадру», «Исступление плоти» с Франсуазой Арну. Нам хотелось быть похожими на их героинь, осмелиться вести себя как они. Между книгами, фильмами и жесткими нормами общества пролегала зона запрета и морального осуждения, и мы не имели права на самостоятельность.
В таких условиях бесконечно долго тянулись годы томления – вплоть до разрешения заняться сексом в браке. Приходилось жить с этой жаждой наслаждения, которое считалось уделом взрослых, но настойчиво требовало удовлетворения, несмотря на все попытки отвлечься и усердные молитвы, и необходимость хранить тайну, способную отправить в разряд извращенок, истеричек и шлюх.
В словаре «Ларусс» написано:
Онанизм – ряд способов искусственного достижения сексуального удовлетворения. О. часто приводит к серьезным осложнениям; следует пресекать его у детей в период полового созревания. Рекомендовано сочетанное применение брома, обливаний, гимнастики, физической нагрузки, горного воздуха, лечение препаратами железа и мышьяка.
Скрываясь от всевидящего ока общества, мы мастурбировали в кровати или в туалете.
Парни с гордостью шли в армию – считалось, что солдатская форма всякому к лицу. Получив повестку, они шли в кафе и проставлялись в честь дня, когда их признали настоящими мужчинами. До службы они были пацаны и не котировались на рынке труда и супружества. После нее – имели право завести жену и детей. Военная форма, которую они выгуливали по кварталу во время побывок, окружала их ореолом патриотической красоты и потенциального самопожертвования. Их осеняла тень бойцов армии победителей и американских десантников. Новенький колючий драп бушлата, когда мы целовали их, встав на цыпочки, являл неодолимую границу между миром мужчин и миром женщин. Глядя на них, мы чувствовали: вот они, герои.
Под слоем незыблемых вещей – прошлогодних цирковых афиш с портретами Роже Ланзака[18 - Певец, актер, телеведущий.], фотографий первого причастия, раздаваемых подружкам, клуба французской песни на «Радио Люксембург» – дни наполнялись новыми желаниями. По воскресеньям мы собирались толпой у витрины магазина электротоваров – смотреть телевизор. Ради привлечения посетителей владельцы кафе тратились на покупку телевизионного аппарата. По склону холма змеилась трасса мотогонок, и мы целыми днями следили, как оглушительные штуковины летают вверх и вниз. Коммерция с ее новыми слоганами – «инициатива» и «динамичность» – все нетерпеливей взнуздывала привычную городскую рутину. К летней ярмарке и предновогоднему базару добавился новый весенний ритуал – Декада торговли. В центре города из репродукторов неслись призывы что-то покупать вперемешку с песнями Анни Корди и Эдди Константина и обещания призов – машины «Симка» или столового гарнитура. Местный конферансье, стоя на эстраде на площади мэрии, развлекал публику репризами Роже Николя и Жана Ришара[19 - Популярные комические актеры.], зазывал всех желающих кидать кольца или играть в мгновенную лотерею, как на радио. В стороне восседала на подиуме Королева Коммерции с короной на голове. Под флагами праздника бодро продавался товар. Люди говорили «новая жизнь» или «нельзя сидеть сиднем – совсем отупеешь, корой зарастешь».
Какое-то непонятное веселье вдруг охватило молодежь из среднего класса, мы устраивали вечеринки, придумывали новый язык, говорили в каждой фразе «отстой», «супер», «круть» и «обалденно», для смеха имитировали великосветский акцент, играли в настольный футбол и называли родителей «предками». Ухмылялись, слыша Иветт Хорнер, Тино Росси и Бурвиля. Мы неосознанно искали кумиров своего возраста. Восхищались Жильбером Беко: на его концертах зрители ломали стулья. По радио слушали станцию «Европа-1», где передавали только музыку, песни и рекламу.
На черно-белой фотографии – две девочки на аллее парка стоят плечом к плечу, у обеих руки за спиной. На заднем плане – кусты и высокая кирпичная ограда, выше – небо с крупными белыми облаками. На обороте снимка: «Июль 1955, сады пансионата Сен-Мишель».
Девочка слева выше ростом, у нее светлые волосы, короткая стрижка с длинной челкой набок, светлое платье и носочки, лицо скрыто в тени. Справа – девушка с короткими и темными вьющимися волосами, на полном лице – очки, высокий лоб высвечен солнцем, одета в темный свитер с короткими рукавами, юбку в горошек. Обе в лодочках, у брюнетки они на босу ногу. Школьные передники они, наверно, сняли для фотографии.
Хотя в темноволосой девочке невозможно узнать ту, с косичками, что позировала на пляже, – она вполне могла вырасти и в блондинку, – но именно она, а не блондинка – и разум, заключенный в этом теле с его уникальной памятью, позволяет с точностью утверждать, что кудри этой девочки – результат перманента, который она после торжественного причастия ритуально повторяет каждый год в мае, что юбка ее перешита из прошлогоднего платья, которое стало мало, а свитер связала соседка. И только через восприятие и ощущения темноволосой девочки в очках четырнадцати с половиной лет этот текст может уловить и воскресить какой-то отблеск пятидесятых годов, поймать отражение, оставленное на экране индивидуальной памяти, историей коллективной.
Кроме лодочек, в наружности девочки нет ничего, что в то время было «принято носить» и что мы обнаружили бы в модных журналах и в магазинах больших городов: длинная юбка из шотландки ниже колена, черный свитер и крупный медальон, конский хвост с челкой, как у Одри Хепберн в «Римских каникулах». Снимок можно датировать и концом сороковых, и началом шестидесятых. На взгляд любого, кто родился после, – это просто старое фото, часть доисторического, относительно собственной истории, времени, где все предшествовавшие жизни спрессовываются. И все же свет, который лег сбоку на лицо девочки и на свитер с только наметившейся грудью, дает ощущение тепла июньского солнца в тот год, который ни историки, ни жившие тогда люди не спутают ни с одним другим – 1955-й.
Возможно, она не ощущает дистанции между собой и другими девочками класса – теми, с кем сфотографироваться вместе ей даже не придет в голову. Эта дистанция проявляется в развлечениях, в организации внешкольного времени, в общем жизненном укладе – и отделяет ее как от девочек «шикарных», так и от тех, кто уже работает в конторах или на производстве. Или она осознает эту дистанцию и не придает ей значения.
Она еще не бывала ни в Париже, до которого сто сорок километров, ни на одной вечеринке, у нее нет проигрывателя. Она делает домашние задания под песни из радиоприемника, слова переписывает в тетрадку и прокручивает у себя в голове целый день – на ходу или сидя на уроках: «Ты говорил, говорил, что ты любишь лишь меня, почему под дождем я теперь стою одна».
Она не общается с парнями, но думает о них постоянно. Ей хочется, чтоб можно было накрасить губы, надеть чулки и туфли на высоких каблуках – носков она стесняется и снимает их, выйдя из дома, – чтобы показать, что она перешла в ту категорию девушек, на которых оглядываются на улице. Для этого в воскресенье после мессы она «шатается» по городу в компании двух-трех подружек, тоже «из простых», всегда стараясь не преступить строгий материнский закон «положенного времени» («Я сказала быть во столько-то – значит быть во столько-то, и ни минутой позже»). Общий запрет на развлечения она компенсирует чтением газетных романов с продолжениями: «Люди из Могадора», «Чтобы не умирали», «Кузина Рашель», «Цитадель». Она постоянно придумывает для себя какие-то вымышленные истории и любовные встречи, которые вечером под одеялом заканчиваются оргазмом. В мечтах она видит себя настоящей шлюхой, и еще она завидует блондинке с фотографии, другим девочками из класса на год старше – ей, потеющей от смущения, до них далеко. Она хочет стать как они.
Она посмотрела в кино фильмы «Дорога», «Расстрига», «Гордецы», «Муссон», «Красавица из Кадиса». Количество фильмов, которые ей смотреть нельзя, но хочется – «Дети любви», «Ранние всходы», «Ночные подруги» и т. д. – гораздо больше, чем разрешенных.
(Ездить в центр, жить мечтами, удовлетворять себя самой и ждать – так можно резюмировать юность в провинции.)
Что она узнала о мире, помимо школьных знаний, накопленных вплоть до четвертого[20 - Во Франции классы считаются в обратном порядке, самые старшие классы – второй, первый и заключительный. Четвертый класс соответствует возрасту в 13 лет.] класса, какие события и факты оставили в ней след, который позже, при случайном упоминании в чьей-то фразе, позволит сказать «я помню»?
Крупная забастовка на железной дороге летом 53-го года
падение Дьенбьенфу[21 - Осада и капитуляция французских войск, решающая операция 1-й Индокитайской войны.]
смерть Сталина, объявленная по радио холодным мартовским утром, как раз перед выходом в школу
ученики младших классов, идущие парами в столовую пить молоко по указу Мендес-Франса[22 - Пьер Мендес-Франс – французский политический и государственный деятель, радикал, социалист, левоцентрист.]
лоскутный плед, связанный по кусочку всеми ученицами и отправленный аббату Пьеру[23 - Аббат Пьер, в миру – Анри Антуан Груэ – популярнейший католический священник, проповедник, публицист, участник Сопротивления, организатор масштабных кампаний помощи бездомным и социально не защищенным.], чья борода – повод для сальных шуточек
массовая вакцинация всего городка от ветряной оспы, проводимая в мэрии, потому что в городе Ванн от этой болезни умерло несколько человек
наводнения в Голландии.
Наверняка нет в ее мыслях тех солдат, что недавно стали жертвой коварного нападения в Алжире. Это новый эпизод беспорядков, про которые она только позже узнает, что все началось в День всех святых 1954 года, и вспомнит дату и себя, сидящую у окна, с ногами на кровати, глядящую на гостей из дома напротив, которые по очереди выходят в сад облегчиться возле глухой стенки, – так что она не забудет ни дату алжирского восстания, ни этот вечер Дня всех святых, от которого останется четкая картинка, как бы чистый факт – молодая женщина устраивается на корточках в траве, а потом встает, одергивая юбку.
В той же потаенной памяти, то есть памяти о том, что немыслимо, стыдно или глупо выражать словами, хранится:
коричневое пятно на простыне, которую мать унаследовала от бабушки, умершей три года назад, – пятно несмываемое, которое притягивает ее и вызывает резкое отвращение, словно оно живое
ссора между родителями, в воскресенье перед переводным экзаменом в шестой класс, когда отец хотел прикончить мать и стал волочь ее в подвал к дубовой колоде, куда был воткнут серп
воспоминание, которое возникает ежедневно на улице по дороге в школу, когда проходишь мимо насыпи, где она видела январским утром два года назад, как девочка в коротком пальто для смеха сунула ногу в раскисшую глину. Отпечаток застыл и был виден назавтра и еще несколько месяцев спустя.
Летние каникулы будут долгой полосой скуки, каких-то микроскопических занятий, чтобы заполнить день: