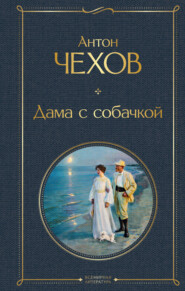По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Именины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И, заложив в карман одну руку и щелкнув пальцами другой, он зашагал дальше. Пока он не скрылся за кустами орешника, Ольга Михайловна всё время смотрела ему в затылок и недоумевала. Откуда у тридцатичетырехлетнего человека эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрация в голосе, откуда все эти «что-с», «н-да-с» и «батенька»?
Ольга Михайловна вспомнила, как она, чтобы не скучать одной дома, в первые месяцы замужества ездила в город на съезд, где иногда вместо ее крестного отца, графа Алексея Петровича, председательствовал Петр Дмитрич. На председательском кресле, в мундире и с цепью на груди, он совершенно менялся. Величественные жесты, громовый голос, «что-с», «н-да-с», небрежный тон… Всё обыкновенное человеческое, свое собственное, что привыкла видеть в нем Ольга Михайловна дома, исчезало в величии, и на кресле сидел не Петр Дмитрич, а какой-то другой человек, которого все звали господином председателем. Сознание, что он – власть, мешало ему покойно сидеть на месте, и он искал случая, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть… Откуда брались близорукость и глухота, когда он вдруг начинал плохо видеть и слышать и, величественно морщась, требовал, чтобы говорили громче и поближе подходили к столу. С высоты величия он плохо различал лица и звуки, так что если бы, кажется, в эти минуты подошла к нему сама Ольга Михайловна, то он и ей бы крикнул: «Как ваша фамилия?» Свидетелям-крестьянам он говорил «ты», на публику кричал так, что его голос был слышен даже на улице, а с адвокатами держал себя невозможно. Если приходилось говорить присяжному поверенному, то Петр Дмитрич сидел к нему несколько боком и щурил глаза в потолок, желая этим показать, что присяжный поверенный тут вовсе не нужен и что он его не признает и не слушает; если же говорил серо одетый частный поверенный, то Петр Дмитрич весь превращался в слух и измерял поверенного насмешливым, уничтожающим взглядом: вот, мол, какие теперь адвокаты! – «Что же вы хотите этим сказать?» – перебивал он. Если витиеватый поверенный употреблял какое-нибудь иностранное слово и, например, вместо «фиктивный» произносил «фактивный», то Петр Дмитрич вдруг оживлялся и спрашивал: «Что-с? Как? Фактивный? А что это значит?» и потом наставительно замечал: «Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете». И поверенный, кончив свою речь, отходил от стола красный и весь в поту, а Петр Дмитрич, самодовольно улыбаясь, торжествуя победу, откидывался на спинку кресла. В своем обращении с адвокатами он несколько подражал графу Алексею Петровичу, но у графа, когда тот, например, говорил: «Защита, помолчите немножко!» – это выходило старчески-добродушно и естественно, у Петра же Дмитрича грубовато и натянуто.
II
Послышались аплодисменты. Это молодой человек кончил играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась в гостиную.
– Я вас заслушалась, – сказала она, подходя к пианино. – Я вас заслушалась. У вас удивительные способности! Но не находите ли вы, что наш пианино расстроен?
В это время в гостиную входили два гимназиста и с ними студент.
– Боже мой, Митя и Коля! – сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя к ним навстречу. – Какие большие стали! Даже не узнаешь вас! А где же ваша мама?
– Поздравляю вас с именинником, – начал развязно студент, – и желаю всего лучшего. Екатерина Андреевна поздравляет и просит извинения. Она не совсем здорова.
– Какая же она недобрая! Я ее весь день ждала. А вы давно из Петербурга? – спросила Ольга Михайловна студента. – Какая теперь там погода? – и, не дожидаясь ответа, она ласково взглянула на гимназистов и повторила: – Какие большие выросли! Давно ли они приезжали сюда с няней, а теперь уже гимназисты! Старое старится, а молодое растет… Вы обедали?
– Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! – сказал студент.
– Ведь вы не обедали?
– Ради бога, не беспокойтесь!
– Но ведь вы хотите есть? – спросила Ольга Михайловна грубым и жестким голосом, нетерпеливо и с досадой – это вышло у нее нечаянно, но тотчас же она закашлялась, улыбнулась, покраснела. – Какие большие выросли! – сказала она мягко.
– Не беспокойтесь, пожалуйста! – сказал еще раз студент.
Студент просил не беспокоиться, дети молчали; очевидно, все трое хотели есть. Ольга Михайловна повела их в столовую и приказала Василию накрыть на стол.
– Недобрая ваша мама! – говорила она, усаживая их. – Совсем меня забыла. Недобрая, недобрая, недобрая… Так и скажите ей. А вы на каком факультете? – спросила она у студента.
– На медицинском.
– Ну, а у меня слабость к докторам, представьте. Я очень жалею, что мой муж не доктор. Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы! Ужасно! Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла от страха. Вы, конечно, выпьете водки?
– Не беспокойтесь, пожалуйста.
– С дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьют малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какие они, право, молодцы! Женить даже можно.
Ольга Михайловна говорила без умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнее говорить, чем слушать. Когда говоришь, нет надобности напрягать внимание, придумывать ответы на вопросы и менять выражение лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопрос, студент стал говорить длинно, и ей поневоле пришлось слушать. Студент знал, что она когда-то была на курсах, а потому, обращаясь к ней, старался казаться серьезным.
– Вы на каком факультете? – спросила она, забыв, что однажды уже задавала этот вопрос.
– На медицинском.
Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была с дамами.
– Да? Значит, вы доктором будете? – сказала она, поднимаясь. – Это хорошо. Я жалею, что сама не пошла на медицинские курсы. Так вы тут обедайте, господа, и выходите в сад. Я вас познакомлю с барышнями.
Она вышла и взглянула на часы: было без пяти минут шесть. И она удивилась, что время идет так медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъедутся гости, осталось еще шесть часов. Куда убить эти шесть часов? Какие фразы говорить? Как держать себя с мужем?
В гостиной и на террасе не было ни души. Все гости разбрелись по саду.
«Нужно будет предложить им до чая прогулку в березняк или катанье на лодках, – думала Ольга Михайловна, торопясь к крокету, откуда слышались голоса и смех. – А стариков усадить играть в винт…»
От крокета навстречу ей шел лакей Григорий с пустыми бутылками.
– Где же барыни? – спросила она.
– В малиннике. Там и барин.
– А, господи боже мой! – с ожесточением крикнул кто-то на крокете. – Да я же тысячу раз же говорил вам то же самое! Чтобы знать болгар, надо их видеть! Нельзя судить по газетам!
От этого ли крика или от чего другого, Ольга Михайловна вдруг почувствовала сильную слабость во всем теле, особенно в ногах и в плечах. Ей вдруг захотелось не говорить, не слышать, не двигаться.
– Григорий, – сказала она томно и с усилием, – когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, не спрашивайте, не говорите ни о чем… Делайте всё сами и… и не стучите ногами. Умоляю… Я не могу, потому что…
Она не договорила и пошла дальше к крокету, но по дороге вспомнила о барынях и повернула к малиннику. Небо, воздух и деревья по-прежнему хмурились и обещали дождь; было жарко и душно; громадные стаи ворон, предчувствуя непогоду, с криком носились над садом. Чем ближе к огороду, тем аллеи становились запущеннее, темнее и уже; на одной из них, прятавшейся в густой заросли диких груш, кислиц, молодых дубков, хмеля, целые облака мелких черных мошек окружили Ольгу Михайловну; она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленького человечка… В воображении пронеслись Григорий, Митя, Коля, лица мужиков, приходивших утром поздравлять…
Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. К ней навстречу быстро шел дядя Николай Николаич.
– Это ты, милая? Очень рад… – начал он, задыхаясь. – На два слова… – Он вытер платком свой бритый красный подбородок, потом вдруг отступил шаг назад, всплеснул руками и выпучил глаза. – Матушка, до каких же пор это будет продолжаться? – заговорил он быстро, захлебываясь. – Я тебя спрашиваю: где границы? Не говорю уже о том, что его держимордовские взгляды деморализуют среду, что он оскорбляет во мне и в каждом честном, мыслящем человеке всё святое и лучшее – не говорю, но пусть он будет хоть приличен! Что такое? Кричит, рычит, ломается, корчит из себя какого-то Бонапарта, не дает слова сказать… чёрт его знает! Какие-то величественные жесты, генеральский смех, снисходительный тон! Да позвольте вас спросить: кто он такой? Я тебя спрашиваю: кто он такой? Муж своей жены, мелкопоместный титуляр, которому посчастливилось жениться на богатой! Выскочка и юнкер, каких много! Щедринский тип! Клянусь богом, что-нибудь из двух: или он страдает манией величия, или в самом деле права эта старая, выжившая из ума крыса, граф Алексей Петрович, когда говорит, что теперешние дети и молодые люди поздно становятся взрослыми и до сорока лет играют в извозчики и в генералы!
– Это верно, верно… – согласилась Ольга Михайловна. – Позволь мне пройти.
– Теперь ты рассуди, к чему это поведет? – продолжал дядя, загораживая ей дорогу. – Чем кончится эта игра в консерватизм и в генералы? Уже под суд попал! Попал! Я очень рад! Докричался и достукался до того, что угодил на скамью подсудимых. И не то чтобы окружный суд или что, а судебная палата! Хуже этого, кажется, и придумать нельзя! Во-вторых, со всеми рассорился! Сегодня именины, а, погляди, не приехали ни Востряков, ни Яхонтов, ни Владимиров, ни Шевуд, ни граф… На что, кажется, консервативнее графа Алексея Петровича, да и тот не приехал. И никогда больше не приедет! Увидишь, что не приедет!
– Ах, боже мой, да я-то тут при чем? – спросила Ольга Михайловна.
– Как при чем? Ты его жена! Ты умна, была на курсах, и в твоей власти сделать из него честного работника!
– На курсах не учат, как влиять на тяжелых людей. Я должна буду, кажется, просить у всех вас извинения, что была на курсах! – сказала Ольга Михайловна резко. – Послушай, дядя, если у тебя целый день над ухом будут играть одни и те же гаммы, то ты не усидишь на месте и сбежишь. Я уж круглый год по целым дням слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же, наконец, иметь сожаление!
Дядя сделал очень серьезное лицо, потом пытливо поглядел на нее и покривил рот насмешливою улыбкой.
– Вот оно что! – пропел он старушечьим голосом. – Виноват-с! – сказал они церемонно раскланялся. – Если ты сама подпала под его влияние и изменила убеждения, то так бы и сказала раньше. Виноват-с!
– Да, я изменила убеждения! – крикнула она. – Радуйся!
– Виноват-с!
Дядя в последний раз церемонно поклонился, как-то вбок, и, весь съежившись, шаркнул ногой и пошел назад.
«Дурак, – подумала Ольга Михайловна. – И ехал бы себе домой».
Дам и молодежь нашла она на огороде в малиннике. Одни ели малину, другие, кому уже надоела малина, бродили по грядам клубники или рылись в сахарном горошке. Несколько в стороне от малинника, около ветвистой яблони, кругом подпертой палками, повыдерганными из старого палисадника, Петр Дмитрич косил траву. Волосы его падали на лоб, галстук развязался, часовая цепочка выпала из петли. В каждом его шаге и взмахе косой чувствовались уменье и присутствие громадной физической силы. Возле него стояли Любочка и дочери соседа, полковника Букреева, Наталья и Валентина, или, как их все звали, Ната и Вата, анемичные и болезненно-полные блондинки лет 16–17, в белых платьях, поразительно похожие друг на друга. Петр Дмитрич учил их косить.
– Это очень просто… – говорил он. – Нужно только уметь держать косу и не горячиться, то есть не употреблять силы больше, чем нужно. Вот так… Не угодно ли теперь вам? – предложил он косу Любочке. – Ну-ка!