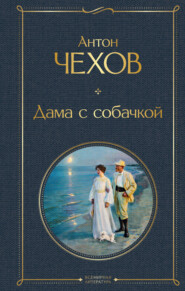По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы. Повести. 1888-1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лицо его по-прежнему выражало мозговую лень, и, по видимому, рассказ Ананьева не тронул его нисколько. Только когда инженер, отдохнувши минутку, опять принялся развивать свою мысль и повторять то, что уже было сказано им вначале, студент раздраженно поморщился, встал из-за стола и отошел к своей кровати. Он постлал постель и стал раздеваться.
– У вас теперь такой вид, как будто вы в самом деле кого-нибудь убедили! – сказал он раздраженно.
– Я, кого-нибудь убедил? – спросил инженер. – Душа моя, да разве я претендую на это? Бог с вами! Убедить вас невозможно! Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий!..
– И потом, удивительная логика! – проворчал студент, надевая ночную сорочку. – Мысли, которых вы так не любите, для молодых гибельны, для стариков же, как вы говорите, составляют норму. Точно речь идет о сединах… Откуда эта старческая привилегия? На чем она основана? Уж коли эти мысли – яд, так яд для всех одинаково.
– Э, нет, душа моя, не говорите! – сказал инженер и хитро подмигнул глазом. – Не говорите! Старики, во-первых, не виртуозы. Их пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов, настрадаются, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт, и прочное философское развитие. Во-вторых, у стариков-мыслителей пессимизм составляет не шалтай-болтай, как у нас с вами, а мировую боль, страдание; он у них имеет христианскую подкладку, потому что вытекает из любви к человеку и из мыслей о человеке и совсем лишен того эгоизма, какой замечается у виртуозов. Вы презираете жизнь за то, что ее смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей собственной смерти, настоящий же мыслитель страдает, что истина скрыта от всех, и боится за всех людей. Например, тут недалече живет казенный лесничий Иван Александрыч. Хороший такой старичок. Когда-то он где-то был учителем, пописывал что-то, чёрт его знает, кем он был, но только умница замечательная и по части философии собаку съел. Читал он много и теперь постоянно читает. Ну-с, как-то недавно встретились мы с ним на Грузовском участке… А там как раз в это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, как не специалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному мастеру нужно меньше минуты. Рабочие были в духе и работали, действительно, ловко и быстро; особенно один подлец необыкновенно ловко попадал молотком в головку гвоздя и вбивал его с одного размаха, а в рукоятке-то молотка чуть ли не сажень и каждый гвоздь в фут длиною. Иван Александрыч долго глядел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: «Как жаль, что эти замечательные люди умрут!» Такой пессимизм я понимаю…
– Всё это ничего не доказывает и не объясняет, – сказал студент, укрываясь простыней, – и всё это одно только толчение воды в ступе! Никто ничего не знает и ничего нельзя доказать словами.
Он выглянул из-под простыни, приподнял голову и, раздраженно морщась, проговорил быстро:
– Надо быть очень наивным, чтобы верить и придавать решающее значение человеческой речи и логике. Словами можно доказать и опровергнуть всё, что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два – семь. Я люблю слушать и читать, но верить, покорнейше благодарю, я не умею и не хочу. Я поверю одному только богу, а вам, хоть бы вы говорили мне до второго пришествия и обольстили еще пятьсот Кисочек, я поверю разве только, когда сойду с ума… Спокойной ночи!
Студент спрятал голову под простыню и отвернулся лицом к стенке, желая этим движением дать понять, что он уж не желает ни слушать, ни говорить. На этом и кончился спор.
Прежде чем лечь спать, я и инженер вышли из барака, и я еще раз видел огни.
– Мы утомили вас своей болтовней! – сказал Ананьев, зевая и глядя на небо. – Ну, да что ж, батенька! Только и удовольствия в этой скучище, что вот вина выпьешь да пофилософствуешь… Экая насыпь, господи! – умилился он, когда мы подошли к насыпи. – Это не насыпь, а Арарат-гора.
Он помолчал немного и сказал:
– Барону эти огни напоминают амалекитян, а мне кажется, что они похожи на человеческие мысли… Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то – далеко за старостью… Однако, довольно философствовать! Пора бай-бай…
Когда мы вернулись в барак, инженер стал упрашивать меня, чтобы я лег непременно на его кровать.
– Ну, пожалуйста! – говорил он умоляюще, прижимая обе руки к сердцу. – Прошу вас! А насчет меня не беспокойтесь. Я могу спать где угодно, да и еще не скоро лягу… Сделайте такое одолжение!
Я согласился, разделся и лег, а он сел за стол и принялся за чертежи.
– Нашему брату, батенька, некогда спать, – говорил он вполголоса, когда я лег и закрыл глаза. – У кого жена да пара ребят, тому не до спанья. Теперь корми и одевай да на будущее припасай. А у меня их двое: сынишка и дочка… У мальчишки-подлеца хорошая рожа… Шести лет еще нет, а способности, доложу я вам, необыкновенные… Тут у меня где-то их карточки были… Эх, деточки мои, деточки!
Он пошарил в бумагах, нашел карточки и стал глядеть на них. Я уснул.
Разбудили меня лай Азорки и громкие голоса. Фон Штенберг, в одном нижнем белье, босой и с всклоченными волосами, стоял на пороге двери и с кем-то громко разговаривал. Светало… Хмурый, синий рассвет гляделся в дверь, в окна и в щели барака и слабо освещал мою кровать, стол с бумагами и Ананьева. Растянувшись на полу на бурке, выпятив свою мясистую, волосатую грудь и с кожаной подушкой под головой, инженер спал и храпел так громко, что я от души пожалел студента, которому приходится спать с ним каждую ночь.
– С какой же стати мы будем принимать? – кричал фон Штенберг. – Это нас не касается! Поезжай к инженеру Чалисову! От кого это котлы?
– От Никитина… – отвечал угрюмо чей-то бас.
– Ну, так вот и поезжай к Чалисову… Это не по нашей части. Какого ж чёрта стоишь? Поезжай!
– Ваше благородие, мы уж были у господина Чалисова! – сказал бас еще угрюмее. – Вчера цельный день их искали по линии, и в ихнем бараке нам так сказали, что они на Дымковский участок уехали. Примите, сделайте милость! До каких же пор нам возить их? Возим-возим по линии, и конца не видать…
– Что там? – прохрипел Ананьев, просыпаясь и быстро поднимая голову.
– От Никитина котлы привезли, – сказал студент, – и просят, чтобы мы их приняли. А какое нам дело принимать?
– Гоните их в шею!
– Сделайте милость, ваше благородие, доведите до порядка! Лошади два дня не евши и хозяин, чай, серчает. Назад нам везть, что ли? Железная дорога котлы заказывала, стало быть, она и принять должна…
– Да пойми же, дубина, что это не наше дело! Поезжай к Чалисову!
– Что такое? Кто там? – прохрипел опять Ананьев. – А чёрт их возьми совсем, – выбранился он, поднимаясь и идя к двери. – Что такое?
Я оделся и минуты через две вышел из барака. Ананьев и студент, оба в нижнем белье и босые, что-то горячо и нетерпеливо объясняли мужику, который стоял перед ними без шапки и с кнутом в руке и, по-видимому, не понимал их. На лицах обоих была написана самая будничная забота.
– На что мне сдались твои котлы? – кричал Ананьев. – На голову я себе их надену, что ли? Если ты не застал Чалисова, то поищи его помощника, а нас оставь в покое!
Увидев меня, студент, вероятно, вспомнил разговор, который был ночью, и на сонном лице его исчезла забота и показалось выражение мозговой лени. Он махнул рукой на мужика и, о чем-то думая, отошел в сторону.
Утро было пасмурное. По линии, где ночью светились огни, копошились только что проснувшиеся рабочие. Слышались голоса и скрип тачек. Начинался рабочий день. Одна лошаденка в веревочной сбруе уже плелась на насыпь и, изо всех сил вытягивая шею, тащила за собою телегу с песком…
Я стал прощаться… Многое было сказано ночью, но я не увозил с собою ни одного решенного вопроса и от всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ Кисочки. Севши на лошадь, я в последний раз взглянул на студента и Ананьева, на истеричную собаку с мутными, точно пьяными глазами, на рабочих, мелькавших в утреннем тумане, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумал:
«Ничего не разберешь на этом свете!»
А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии и когда, немного погодя, я видел перед собою только бесконечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: «Да, ничего не поймешь на этом свете!»
Стало восходить солнце…
Неприятность
Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет 35, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячею привязанностью к так называемым «бытовым вопросам», как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек, с жирным лицом, плоскими сальными волосами и с серьгой в ухе.
Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась в складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то, что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстуке кое-где белел пух… Очевидно, фельдшер спал всю ночь не раздеваясь и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежа стесняла его.
Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное – напряженные усилия над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело, со вчерашнего… Он переживал мучительное состояние «перегара», страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой.
Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда:
– Давали Герасиму молока?
– Давали-с… – ответил Михаил Захарыч тоже мягко.
Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь:
– Отчего температура не записана?
– Нет, записана-с! – сказал мягко Михаил Захарыч, но, поглядев в листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: – Не знаю-с, это, должно быть, Надежда Осиповна…
– И вчерашняя вечерняя не записана! – продолжал доктор. – Только пьянствуете, чёрт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник! Где Надежда Осиповна?
Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что всё разбросано, ничего, что нужно, не сделано и что всё так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера, и ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить всё, плюнуть и уйти. Но он сделал над собою усилие и продолжал обход.
За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой.