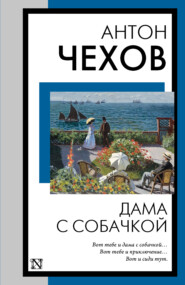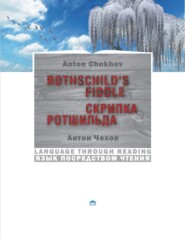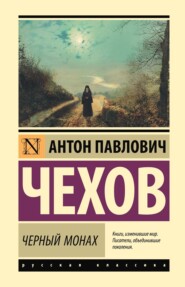По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Остров Сахалин (из путевых записок)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот по улице, направляясь к полицейскому управлению, идет толпа гиляков, здешних аборигенов, и на них сердито лают смирные сахалинские дворняжки, которые лают почему-то на одних только гиляков. Вот другая группа: кандальные каторжные в шапках и без шапок, звеня цепями, тащат тяжелую тачку с песком, сзади к тачке цепляются мальчишки, по сторонам плетутся конвойные с потными красными лицами и с ружьями на плечах. Высыпав песок на площадке перед домом генерала, кандальные возвращаются тою же дорогой назад, и звон кандалов слышится непрерывно. Каторжный в халате с бубновым тузом ходит из двора во двор и продает ягоду голубику. Когда идешь по улице, сидящие встают и все встречные снимают шапки.
Каторжные и поселенцы, за немногими исключениями, ходят по улицам свободно, без кандалов и без конвоя, и встречаются на каждом шагу толпами и в одиночку. Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки и няньки. Такая близость в первое время с непривычки смущает и приводит в недоумение. Идешь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пилами и молотками. А ну, думаешь, размахнется и трахнет! Или придешь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему записку, а сзади в это время стоит и ждет его слуга – каторжный с ножом, которым он только что чистил в кухне картофель. Или, бывало, рано утром, часа в четыре, просыпаешься от какого-то шороха, смотришь – к постели на цыпочках, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? «Сапожки почистить, ваше высокоблагородие». Скоро я пригляделся и привык. Привыкают все, даже женщины и дети. Здешние дамы бывают совершенно покойны, когда отпускают своих детей гулять с няньками бессрочнокаторжными.
Один корреспондент пишет, что вначале он трусил чуть не каждого куста, а при встречах на дороге и тропинках с арестантом ощупывал под пальто револьвер, потом успокоился, придя к заключению, что «каторга в общем – стадо баранов, трусливых, ленивых, полуголодных и заискивающих». Чтобы думать, что русские арестанты не убивают и не грабят встречного только из трусости и лени, надо быть очень плохого мнения о человеке вообще или не знать человека.
Приамурский генерал-губернатор барон А. Н. Корф прибыл на Сахалин 19 июля, на военном судне «Бобр». На площади, между домом начальника острова и церковью, он был встречен почетным караулом, чиновниками и толпою поселенцев и каторжных. Играла та самая музыка, о которой я только что говорил. Благообразный старик, бывший каторжный, разбогатевший на Сахалине, по фамилии Потемкин, поднес ему хлеб-соль на серебряном блюде местного изделия. На площади же стоял мой хозяин-доктор в черном фраке и в картузе и держал в руках прошение. Я в первый раз видел сахалинскую толпу, и от меня не укрылась ее печальная особенность: она состояла из мужчин и женщин рабочего возраста, были старики и дети, но совершенно отсутствовали юноши. Казалось, будто возраста от 13 до 20 лет на Сахалине вовсе не существует. И я невольно задал себе вопрос: не значит ли это, что молодежь, подрастая, оставляет остров при первой возможности?
На другой же день по приезде генерал-губернатор приступил к осмотру тюрем и поселений. Всюду поселенцы, ожидавшие его с большим нетерпением, подавали ему прошения и словесно заявляли просьбы. Говорили каждый за себя или один за всё селение, и так как ораторское искусство процветает на Сахалине, то дело не обошлось и без речей; в Дербинском поселенец Маслов в своей речи несколько раз назвал начальство «всемилостивейшим правительством». К сожалению, далеко не все, обращавшиеся к барону А. Н. Корфу, просили того, что нужно. Тут, как и в России в подобных случаях, сказалась досадная мужицкая темнота: просили не школ, не правосудия, не заработков, а разных пустяков: кто казенного довольствия, кто усыновления ребенка, – одним словом, подавали прошения, которые могли быть удовлетворены и местным начальством. А. Н. Корф отнесся к их просьбам с полным вниманием и доброжелательством; глубоко тронутый их бедственным положением, он давал обещания и возбуждал надежды на лучшую жизнь. Когда в Аркове помощник смотрителя тюрьмы отрапортовал: «В селении Аркове всё обстоит благополучно», барон указал ему на озимые и яровые всходы и сказал: «Всё благополучно, кроме только того, что в Аркове нет хлеба». В Александровской тюрьме по случаю его приезда арестантов кормили свежим мясом и даже олениной; он обошел все камеры, принимал прошения и приказал расковать многих кандальных.
22 июля после молебна и парада (был табельный день[7 - Табельные дни – в дореволюционной России праздничный день; коронации, именин и рождения государя, государыни, наследника и т. п.]) прибежал надзиратель и доложил, что генерал-губернатор желает меня видеть. Я отправился. А. Н. Корф принял меня очень ласково и беседовал со мной около получаса. Наш разговор происходил в присутствии ген. Кононовича. Между прочим, мне был предложен вопрос, не имею ли я какого-либо официального поручения. Я ответил: нет.
– По крайней мере нет ли у вас поручения от какого-либо ученого общества или газеты? – спросил барон.
У меня в кармане был корреспондентский бланок, но так как я не имел в виду печатать что-либо о Сахалине в газетах, то, не желая вводить в заблуждение людей, относившихся ко мне, очевидно, с полным доверием, я ответил: нет.
– Я разрешаю вам бывать, где и у кого угодно, – сказал барон. – Нам скрывать нечего. Вы осмотрите здесь всё, вам дадут свободный пропуск во все тюрьмы и поселения, вы будете пользоваться документами, необходимыми для вашей работы, – одним словом, вам двери будут открыты всюду. Не могу я разрешить вам только одного: какого бы то ни было общения с политическими, так как разрешать вам это я не имею никакого права.
Отпуская меня, барон сказал:
– Завтра мы еще поговорим. Приходите с бумагой.
В тот же день я присутствовал на торжественном обеде в квартире начальника острова. Тут я познакомился почти со всею сахалинскою администрацией. За обедом играла музыка, произносились речи. А. Н. Корф, в ответ на тост за его здоровье, сказал короткую речь, из которой мне теперь припоминаются слова: «Я убедился, что на Сахалине несчастным живется легче, чем где-либо в России и даже Европе. В этом отношении вам предстоит сделать еще многое, так как путь добра бесконечен». Он пять лет назад был на Сахалине и теперь находил прогресс значительным, превосходившим всякие ожидания. Его похвальное слово не мирилось в сознании с такими явлениями, как голод, повальная проституция ссыльных женщин, жестокие телесные наказания, но слушатели должны были верить ему: настоящее в сравнении с тем, что происходило пять лет назад, представлялось чуть ли не началом золотого века.
Вечером была иллюминация. По улицам, освещенным плошками и бенгальским огнем, до позднего вечера гуляли толпами солдаты, поселенцы и каторжные. Тюрьма была открыта. Река Дуйка, всегда убогая, грязная, с лысыми берегами, а теперь украшенная по обе стороны разноцветными фонарями и бенгальскими огнями, которые отражались в ней, была на этот раз красива, даже величественна, но и смешна, как кухаркина дочь, на которую для примерки надели барышнино платье. В саду генерала играла музыка, и пели певчие. Даже из пушки стреляли, и пушку разорвало. И все-таки, несмотря на такое веселье, на улицах было скучно. Ни песен, ни гармоники, ни одного пьяного; люди бродили, как тени, и молчали, как тени. Каторга и при бенгальском освещении остается каторгой, а музыка, когда ее издали слышит человек, который никогда уже не вернется на родину, наводит только смертную тоску.
Когда я явился к генерал-губернатору с бумагой, он изложил мне свой взгляд на сахалинскую каторгу и колонию и предложил записать всё, сказанное им, что я, конечно, исполнил очень охотно. Всё записанное он предложил мне озаглавить так: «Описание жизни несчастных». Из нашей последней беседы и из того, что я записал под его диктовку, я вынес убеждение, что это великодушный и благородный человек, но что «жизнь несчастных» была знакома ему не так близко, как он думал. Вот несколько строк из описания: «Никто не лишен надежды сделаться полноправным; пожизненности наказания нет. Бессрочная каторга ограничивается 20-ю годами. Каторжные работы не тягостны. Труд подневольный не дает работнику личной пользы – в этом его тягость, а не в напряжении физическом. Цепей нет, часовых нет, бритых голов нет».
Дни стояли хорошие, с ясным небом и с прозрачным воздухом, похожие на наши осенние дни. Вечера были превосходные; припоминается мне пылающий запад, темно-синее море и совершенно белая луна, выходящая из-за гор. В такие вечера я любил кататься по долине между постом и деревней Ново-Михайловкой; дорога здесь гладкая, ровная, рядом с ней рельсовый путь для вагонеток, телеграф. Чем дальше от Александровска, тем долина становится уFже, потемки густеют, гигантские лопухи начинают казаться тропическими растениями; со всех сторон надвигаются темные горы. Вон вдали огни, где жгут уголь, вон огонь от пожара. Восходит луна. Вдруг фантастическая картина: мне навстречу по рельсам, подпираясь шестом, катит на небольшой платформе каторжный в белом. Становится жутко.
– Не пора ли назад? – спрашиваю кучера.
Кучер-каторжный поворачивает лошадей, потом оглядывается на горы и огни и говорит:
– Скучно здесь, ваше высокоблагородие. У нас в России лучше.
III
Чтобы побывать по возможности во всех населенных местах и познакомиться поближе с жизнью большинства ссыльных, я прибегнул к приему, который в моем положении казался мне единственным. Я сделал перепись. В селениях, где я был, я обошел все избы и записал хозяев, членов их семей, жильцов и работников. Чтобы облегчить мой труд и сократить время, мне любезно предлагали помощников, но так как, делая перепись, я имел главною целью не результаты ее, а те впечатления, которые дает самый процесс переписи, то я пользовался чужою помощью только в очень редких случаях. Эту работу, произведенную в три месяца одним человеком, в сущности, нельзя назвать переписью; результаты ее не могут отличаться точностью и полнотой, но, за неимением более серьезных данных ни в литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть может, пригодятся и мои цифры.
Для переписи я пользовался карточками, которые были напечатаны для меня в типографии при полицейском управлении. Самый процесс переписи заключался в следующем. Прежде всего, на каждой карточке в первой строке я отмечал название поста или селения. Во второй строке: номер дома по казенной подворной описи. Затем, в третьей строке, звание записываемого: каторжный, поселенец, крестьянин из ссыльных, свободного состояния. Свободных я записывал только в тех случаях, если они принимали непосредственное участие в хозяйстве ссыльного, например, состояли с ним в браке, законном или незаконном, и вообще принадлежали к семье его или проживали в его избе в качестве работника или жильца и т. п.
Званию в сахалинском обиходе придается большое значение. Каторжного, несомненно, стесняет его звание; на вопрос, какого он звания, он отвечает: «рабочий». Если же до каторги он был солдатом, то непременно добавляет еще к этому: «из солдат, ваше высокоблагородие». Отбыв или, как сам он выражается, отслужив свой срок, он становится поселенцем. Это новое звание не считается низким уже потому, что слово «поселенец» мало чем отличается от поселянина, не говоря уже о правах, какие сопряжены с этим званием. На вопрос, кто он, поселенец обыкновенно отвечает так: «вольный». Через десять, а при благоприятных условиях, оговоренных в уставе о ссыльных, через шесть лет поселенец получает звание крестьянина из ссыльных. На вопрос, какого он звания, крестьянин отвечает не без достоинства, как будто уж не может идти в счет с прочими и отличается от них чем-то особенным: «Я крестьянин». Но без прибавки «из ссыльных». Я не спрашивал ссыльных о прежнем их звании, так как по этому пункту в канцеляриях имеется достаточно сведений. Сами они, кроме солдат, ни мещане, ни купцы, ни духовные, не распространяются насчет своего утерянного звания, как будто оно уже забыто, а называют свое прежнее состояние коротко – волей. Если кто заводит разговор о своем прошлом, то обыкновенно начинает так: «Когда я жил на воле…» и т. д.
Четвертая строка: имя, отчество и фамилия. Насчет имен могу только вспомнить, что я, кажется, не записал правильно ни одного женского татарского имени. В татарской семье, где много девочек, а отец и мать едва понимают по-русски, трудно добиться толку и приходится записывать наугад. И в казенных бумагах татарские имена пишутся тоже неправильно.
Случается, что православный русский мужичок на вопрос, как его зовут, отвечает не шутя: «Карл». Это бродяга, который по дороге сменился именем с каким-то немцем. Таких, помнится, записано мною двое: Карл Лангер и Карл Карлов. Есть каторжный, которого зовут Наполеоном. Есть женщина-бродяга Прасковья, она же Марья. Что касается фамилий, то по какой-то странной случайности на Сахалине много Богдановых и Беспаловых. Много курьезных фамилий: Шкандыба, Желудок, Безбожный, Зевака. Татарские фамилии, как мне говорили, сохраняют и на Сахалине, несмотря на лишение всех прав состояния, приставки и частицы, означающие высокие звания и титулы. Насколько это верно, не знаю, но ханов, султанов и оглы записал я немало. У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия Непомнящий. Вот несколько бродяжеских прозвищ: Мустафа Непомнящий, Василий Безотечества, Франц Непомнящий, Иван Непомнящий 20 лет, Яков Беспрозвания, бродяга Иван 35 лет[8 - Это число составляет часть фамилии. В действительности ему 48 лет.]. Человек Неизвестного Звания.
В этой же строке я отмечал отношения записываемого к хозяину: жена, сын, сожительница, работник, жилец, сын жильца и т. д. Записывая детей, я отличал законно- и незаконнорожденных, родных и приемных. Кстати сказать, приемыши часто встречаются на Сахалине, и мне приходилось записывать не только приемных детей, но и приемных отцов. Многие из живущих в избах относятся к хозяевам как совладельцы или половинщики. В обоих северных округах на одном участке сидят по два и даже по три владельца, и так – больше, чем в половине хозяйств; поселенец садится на участок, строит дом и обзаводится хозяйством, а через два-три года ему сажают совладельца или же один участок дают сразу двум поселенцам. Это происходит от нежеланья и неуменья администрации приискивать новые места для поселений. Бывает и так, что отбывший каторгу просит, чтобы ему позволили поселиться в таком посту или селении, где усадебных мест уже нет, и его поневоле приходится сажать уже на готовое хозяйство. Количество совладельцев особенно увеличивается после объявления высочайших манифестов, когда администрация бывает вынуждена приискивать места сразу для нескольких сотен душ.
Пятая строка: возраст. Женщины, которым уже за сорок, плохо помнят свои лета и отвечают на вопрос, подумав. Армяне из Эриванской губ<ернии> совсем не знают своего возраста. Один из них ответил мне так: «Может, тридцать, а может, уже и пятьдесят». В таких случаях приходилось определять возраст приблизительно, на глаз, и потом проверять по статейному списку. Молодежь 15 лет и постарше обыкновенно убавляет свои лета. Иная уже невеста или давно уже занимается проституцией, а ей всё еще 13–14 лет. Дело в том, что дети и подростки в беднейших семьях получают от казны кормовые, которые выдаются только до 15 лет, и тут молодых людей и их родителей простой расчет побуждает говорить неправду.
Шестая строка относилась к вероисповеданию.
Седьмая: где родился? На этот вопрос мне отвечали без малейшего затруднения, и только бродяги отвечали каким-нибудь острожным каламбуром или «не помню». Девица Наталья Непомнящая, когда я спросил ее, какой она губернии, сказала мне: «Всех понемножку». Земляки заметно держатся друг друга, вместе ведут компанию, и, коли бегут, то тоже вместе; туляк предпочитает идти в совладельцы к туляку, бакинец к бакинцу. По-видимому, существуют землячества. Когда случалось спрашивать про отсутствующего, то земляки давали о нем самые подробные сведения.
Восьмая строка: с какого года на Сахалине? Редкий сахалинец отвечал на этот вопрос сразу, без напряжения. Год прибытия на Сахалин – год страшного несчастья, а между тем его не знают или не помнят. Спрашиваешь каторжную бабу, в каком году ее привезли на Сахалин, а она отвечает вяло, не думая: «Кто ж его знает? Должно, в 83-м». Вмешивается муж или сожитель: «Ну, что зря языком болтать? Ты пришла в 85-м». – «Может, и в 85-м», – соглашается она со вздохом. Начинаем считать, и мужик выходит прав. Мужчины не так туги, как бабы, но и они дают ответ не сразу, а подумав и поговорив.
– Тебя в каком году пригнали на Сахалин? – спрашиваю я поселенца.
– Я одного сплава с Гладким, – говорит он неуверенно, поглядывая на товарищей.
Гладкий первого сплава, а первый сплав, то есть первый «Доброволец»[9 - Так в просторечии называли пароходы Добровольного флота, общества, возникшего после русско-турецкой войны в ответ на потребность «скорого и удобного сообщения» с Дальним Востоком морским путем. Добровольный флот был создан на пожертвования народа.], пришел на Сахалин в 1879 г. Так и записываю. Или бывает такой ответ: «В каторге я пробыл шесть лет, да вот в поселенцах уж третий год… Вот и считайте». – «Значит, ты на Сахалине уже девятый год?» – «Никак нет. До Сахалина я еще в централе отсидел два года». И т. д. Или такой ответ: «Я пришел в тот год, когда Дербина убили». Или: «Тогда Мицуль помер». Для меня было особенно важно получать верные ответы от тех, которые пришли сюда в шестидесятых и семидесятых годах; мне хотелось не пропустить ни одного из них, что, по всей вероятности, не удалось мне. Сколько уцелело из тех, которые пришли сюда 20–25 лет назад? – вопрос, можно сказать, роковой для сахалинской колонизации.
В девятой строке я записывал главное занятие и ремесло.
В десятой – грамотность. Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме: «Знаешь ли грамоте?» – я же спрашивал так: «Умеешь ли читать?» – и это во многих случаях спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать только по-печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами. «Где уж нам? Какая наша грамота?» – и лишь при повторении вопроса говорят: «Разбирал когда-то по-печатному, да теперь, знать, забыл. Народ мы темный, одно слово – мужики». Неграмотными называют себя также плохо видящие глазами и слепые.
Одиннадцатая относилась к семейному состоянию: женат, вдов, холост? Если женат, то где: на родине, на Сахалине? Слова «женат, вдов, холост» на Сахалине еще не определяют семейного положения; здесь очень часто женатые бывают обречены на одинокую безбрачную жизнь, так как супруги их живут на родине и не дают им развода, а холостые и вдовые живут семейно и имеют по полдюжине детей; поэтому ведущих холостую жизнь не формально, а на самом деле, хотя бы они значились женатыми, я считал не лишним отмечать словом «одинок». Нигде в другом месте России незаконный брак не имеет такого широкого и гласного распространения и нигде он не облечен в такую оригинальную форму, как на Сахалине. Незаконное, или, как называют здесь, свободное, сожительство не встречает себе противников ни в начальстве, ни в духовенстве, а, наоборот, поощряется и санкционируется. Есть поселения, где не встретишь ни одного законного сожительства. Свободные пары составляют хозяйства на тех же основаниях, как и законные; они рождают для колонии детей, а потому нет причин при регистрации создавать для них особые правила.
Наконец, двенадцатая строка: получает ли пособие от казны? Из ответов на этот вопрос я хотел выяснить, какая часть населения не в состоянии обойтись без материальной поддержки от казны, или, другими словами, кто кормит колонию: она сама себя или казна? Пособие от казны, кормовое или вещевое, или денежное, обязательно получают все каторжные, поселенцы в первые годы по отбытии каторги, богадельщики и дети беднейших семей. Кроме этих официально признанных пенсионеров, я отметил живущими на счет казны также и тех ссыльных, которые получают от нее жалованье за разные услуги, например: учителя, писаря, надзиратели и т. п. Но ответ получился неполный. Кроме обычных пайков, кормовых и жалований, в широких размерах практикуется еще выдача таких пособий, которые невозможно отметить на карточках, например: пособие при вступлении в брак, покупка у поселенцев зерна по умышленно дорогой цене, а главное, выдача семян, скота и пр. в долг. Иной поселенец должен в казну несколько сот рублей и никогда их не отдаст, но я поневоле должен был записать его не получающим пособия.
Каждую женскую карточку я перечеркивал вдоль красным карандашом и нахожу, что это удобнее, чем иметь особую рубрику для отметки пола. Я записывал только наличных членов семьи; если мне говорили, что старший сын уехал во Владивосток на заработки, а второй служит в селении Рыковском в работниках, то я первого не записывал вовсе, а второго заносил на карточку в месте его жительства.
Я ходил из избы в избу один; иногда сопровождал меня какой-нибудь каторжный или поселенец, бравший на себя от скуки роль проводника. Иногда за мной или на некотором расстоянии следовал, как тень, надзиратель с револьвером. Это посылали его на случай, если я потребую каких-нибудь разъяснений. Когда я обращался к нему с каким-нибудь вопросом, то лоб у него мгновенно покрывался потом и он отвечал: «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» Обыкновенно спутник мой, босой и без шапки, с моею чернильницей в руках, забегал вперед, шумно отворял дверь и в сенях успевал что-то шепнуть хозяину – вероятно, свои предположения насчет моей переписи. Я входил в избу. На Сахалине попадаются избы всякого рода, смотря по тому, кто строил – сибиряк, хохол или чухонец, но чаще всего – это небольшой сруб, аршин в шесть, двух- или трехоконный, без всяких наружных украшений, крытый соломой, корьем и редко тесом. Двора обыкновенно нет. Возле ни одного деревца. Сараишко или банька на сибирский манер встречаются редко. Если есть собаки, то вялые, не злые, которые, как я говорил уже, лают на одних только гиляков, вероятно, потому, что те носят обувь из собачьей шкуры. И почему-то эти смирные, безобидные собаки на привязи. Если есть свинья, то с колодкой на шее. Петух тоже привязан за ногу.
– Зачем это у тебя собака и петух привязаны? – спрашиваю хозяина.
– У нас на Сахалине все на цепи, – острит он в ответ. – Земля уж такая.
В избе одна комната, с русскою печкой. Полы деревянные. Стол, два-три табурета, скамья, кровать с постелью или же постлано прямо на полу. Или так, что нет никакой мебели и только среди комнаты лежит на полу перина, и видно, что на ней только что спали; на окне чашка с объедками. По обстановке это не изба, не комната, а скорее камера для одиночного заключения. Где есть женщины и дети, там, как бы ни было, похоже на хозяйство и на крестьянство, но всё же и там чувствуется отсутствие чего-то важного; нет деда и бабки, нет старых образов и дедовской мебели, стало быть, хозяйству недостает прошлого, традиций. Нет красного угла, или он очень беден и тускл, без лампады и без украшений, – нет обычаев; обстановка носит случайный характер, и похоже, как будто семья живет не у себя дома, а на квартире, или будто она только что приехала и еще не успела освоиться; нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка… а главное, нет родины.
Картины, которые я встречал, обыкновенно не говорили мне о домовитости, уютности и о прочности хозяйств. Чаще всего я встречал в избе самого хозяина, одинокого, скучающего бобыля, который, казалось, окоченел от вынужденного безделья и скуки; на нем вольное платье, но по привычке шинель накинута на плечи по-арестантски, и если он недавно вышел из тюрьмы, то на столе у него валяется фуражка без козырька. Печка не топлена, посуды только и есть, что котелок да бутылка, заткнутая бумажкой. Сам он о своей жизни и о своем хозяйстве отзывается насмешливо, с холодным презрением. Говорит, что уже всякие способы перепробовал, но никакого толку не выходит; остается одно: махнуть на всё рукой. Пока говоришь с ним, в избу собираются соседи и начинается разговор на разные темы: о начальстве, климате, женщинах… От скуки все готовы говорить и слушать без конца. Бывает и так, что, кроме хозяина, застаешь в избе еще целую толпу жильцов и работников; на пороге сидит жилец-каторжный с ремешком на волосах и шьет чирки; пахнет кожей и сапожным варом; в сенях на лохмотьях лежат его дети, и тут же в темном и тесном углу его жена, пришедшая за ним добровольно, делает на маленьком столике вареники с голубикой; это недавно прибывшая из России семья. Дальше, в самой избе, человек пять мужчин, которые называют себя кто – жильцом, кто – работником, а кто – сожителем; один стоит около печки и, надув щеки, выпучив глаза, паяет что-то; другой, очевидно, шут, с деланно-глупою физиономией, бормочет что-то, остальные хохочут в кулаки. А на постели сидит вавилонская блудница, сама хозяйка Лукерья Непомнящая, лохматая, тощая, с веснушками; она старается посмешнее отвечать на мои вопросы и болтает при этом ногами. Глаза у нее нехорошие, мутные, и по испитому, апатичному лицу я могу судить, сколько на своем еще коротком веку переиспытала она тюрем, этапов, болезней. Эта Лукерья задает в избе общий тон жизни, и благодаря ей на всей обстановке сказывается близость ошалелого, беспутного бродяги. Тут уж о серьезном хозяйстве не может быть и речи.
Приходилось также заставать в избе целую компанию, которая до моего прихода играла в карты; на лицах смущение, скука и ожидание: когда я уйду, чтобы опять можно было приняться за карты. Или входишь в избу, и намека нет на мебель, печь голая, а на полу у стен рядышком сидят черкесы, одни в шапках, другие с непокрытыми стрижеными и, по-видимому, очень жесткими головами, и смотрят на меня не мигая. Если я заставал дома одну только сожительницу, то обыкновенно она лежала в постели, отвечала на мои вопросы, зевая и потягиваясь, и, когда я уходил, опять ложилась.
Ссыльное население смотрело на меня, как на лицо официальное, а на перепись – как на одну из тех формальных процедур, которые здесь так часты и обыкновенно ни к чему не ведут. Впрочем, то обстоятельство, что я не здешний, не сахалинский чиновник, возбуждало в ссыльных некоторое любопытство. Меня спрашивали:
– Зачем это вы всех нас записываете?
И тут начинались разные предположения. Одни говорили, что, вероятно, высшее начальство хочет распределить пособие между ссыльными, другие – что, должно быть, уж решили наконец переселять всех на материк, – а здесь упорно и крепко держится убеждение, что рано или поздно каторга с поселениями будет переведена на материк, – третьи, прикидываясь скептиками, говорили, что они не ждут уже ничего хорошего, так как от них сам бог отказался, и это для того, чтобы вызвать с моей стороны возражение. А из сеней или с печки, как бы в насмешку над всеми этими надеждами и догадками, доносился голос, в котором слышались усталость, скука и досада на беспокойство:
– И всё они пишут, и всё они пишут, и всё они пишут, царица небесная!
Голодать и вообще терпеть какие-либо лишения во время моих разъездов по Сахалину мне не приходилось. Я читал, будто агроном Мицуль[10 - Мицуль М. С. (1843–1884) – агроном, участник экспедиции, посланной из Петербурга под начальством чиновника Власова в 1871 г., недолгое время был «заведующим каторжными».], исследуя остров, терпел сильную нужду и даже вынужден был съесть свою собаку. Но с тех пор обстоятельства значительно изменились. Теперешний агроном ездит по отличным дорогам; даже в самых бедных селениях есть надзирательские, или так называемые станки, где всегда можно найти теплое помещение, самовар и постель. Исследователи, когда отправляются в глубь острова, в тайгу, то берут с собой американские консервы, красное вино, тарелки, вилки, подушки и всё, что только можно взвалить на плечи каторжным, заменяющим на Сахалине вьючных животных. Случается и теперь, что люди питаются гнилушками с солью и даже поедают друг друга, но это относится не к туристам и не к чиновникам.
В следующих главах я буду описывать посты и селения и попутно знакомить читателя с каторжными работами и тюрьмами, поскольку я сам успел познакомиться с ними в короткое время. На Сахалине каторжные работы разнообразны в высшей степени; они не специализировались на золоте или угле, а обнимают весь обиход сахалинской жизни и разбросаны по всем населенным местам острова. Корчевка леса, постройки, осушка болот, рыбные ловли, сенокос, нагрузка пароходов – всё это виды каторжных работ, которые по необходимости до такой степени слились с жизнью колонии, что выделять их и говорить о них как о чем-то самостоятельно существующем на острове можно разве только при известном рутинном взгляде на дело, который на каторге ищет прежде всего рудников и заводских работ.
Я начну с Александровской долины, с селений, расположенных на реке Дуйке. На Северном Сахалине эта долина была первая избрана для поселений не потому, что она лучше всех исследована или отвечает целям колонизации, а просто случайно, благодаря тому обстоятельству, что она была ближайшей к Дуэ, где впервые возникла каторга.
Каторжные и поселенцы, за немногими исключениями, ходят по улицам свободно, без кандалов и без конвоя, и встречаются на каждом шагу толпами и в одиночку. Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки и няньки. Такая близость в первое время с непривычки смущает и приводит в недоумение. Идешь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пилами и молотками. А ну, думаешь, размахнется и трахнет! Или придешь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему записку, а сзади в это время стоит и ждет его слуга – каторжный с ножом, которым он только что чистил в кухне картофель. Или, бывало, рано утром, часа в четыре, просыпаешься от какого-то шороха, смотришь – к постели на цыпочках, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? «Сапожки почистить, ваше высокоблагородие». Скоро я пригляделся и привык. Привыкают все, даже женщины и дети. Здешние дамы бывают совершенно покойны, когда отпускают своих детей гулять с няньками бессрочнокаторжными.
Один корреспондент пишет, что вначале он трусил чуть не каждого куста, а при встречах на дороге и тропинках с арестантом ощупывал под пальто револьвер, потом успокоился, придя к заключению, что «каторга в общем – стадо баранов, трусливых, ленивых, полуголодных и заискивающих». Чтобы думать, что русские арестанты не убивают и не грабят встречного только из трусости и лени, надо быть очень плохого мнения о человеке вообще или не знать человека.
Приамурский генерал-губернатор барон А. Н. Корф прибыл на Сахалин 19 июля, на военном судне «Бобр». На площади, между домом начальника острова и церковью, он был встречен почетным караулом, чиновниками и толпою поселенцев и каторжных. Играла та самая музыка, о которой я только что говорил. Благообразный старик, бывший каторжный, разбогатевший на Сахалине, по фамилии Потемкин, поднес ему хлеб-соль на серебряном блюде местного изделия. На площади же стоял мой хозяин-доктор в черном фраке и в картузе и держал в руках прошение. Я в первый раз видел сахалинскую толпу, и от меня не укрылась ее печальная особенность: она состояла из мужчин и женщин рабочего возраста, были старики и дети, но совершенно отсутствовали юноши. Казалось, будто возраста от 13 до 20 лет на Сахалине вовсе не существует. И я невольно задал себе вопрос: не значит ли это, что молодежь, подрастая, оставляет остров при первой возможности?
На другой же день по приезде генерал-губернатор приступил к осмотру тюрем и поселений. Всюду поселенцы, ожидавшие его с большим нетерпением, подавали ему прошения и словесно заявляли просьбы. Говорили каждый за себя или один за всё селение, и так как ораторское искусство процветает на Сахалине, то дело не обошлось и без речей; в Дербинском поселенец Маслов в своей речи несколько раз назвал начальство «всемилостивейшим правительством». К сожалению, далеко не все, обращавшиеся к барону А. Н. Корфу, просили того, что нужно. Тут, как и в России в подобных случаях, сказалась досадная мужицкая темнота: просили не школ, не правосудия, не заработков, а разных пустяков: кто казенного довольствия, кто усыновления ребенка, – одним словом, подавали прошения, которые могли быть удовлетворены и местным начальством. А. Н. Корф отнесся к их просьбам с полным вниманием и доброжелательством; глубоко тронутый их бедственным положением, он давал обещания и возбуждал надежды на лучшую жизнь. Когда в Аркове помощник смотрителя тюрьмы отрапортовал: «В селении Аркове всё обстоит благополучно», барон указал ему на озимые и яровые всходы и сказал: «Всё благополучно, кроме только того, что в Аркове нет хлеба». В Александровской тюрьме по случаю его приезда арестантов кормили свежим мясом и даже олениной; он обошел все камеры, принимал прошения и приказал расковать многих кандальных.
22 июля после молебна и парада (был табельный день[7 - Табельные дни – в дореволюционной России праздничный день; коронации, именин и рождения государя, государыни, наследника и т. п.]) прибежал надзиратель и доложил, что генерал-губернатор желает меня видеть. Я отправился. А. Н. Корф принял меня очень ласково и беседовал со мной около получаса. Наш разговор происходил в присутствии ген. Кононовича. Между прочим, мне был предложен вопрос, не имею ли я какого-либо официального поручения. Я ответил: нет.
– По крайней мере нет ли у вас поручения от какого-либо ученого общества или газеты? – спросил барон.
У меня в кармане был корреспондентский бланок, но так как я не имел в виду печатать что-либо о Сахалине в газетах, то, не желая вводить в заблуждение людей, относившихся ко мне, очевидно, с полным доверием, я ответил: нет.
– Я разрешаю вам бывать, где и у кого угодно, – сказал барон. – Нам скрывать нечего. Вы осмотрите здесь всё, вам дадут свободный пропуск во все тюрьмы и поселения, вы будете пользоваться документами, необходимыми для вашей работы, – одним словом, вам двери будут открыты всюду. Не могу я разрешить вам только одного: какого бы то ни было общения с политическими, так как разрешать вам это я не имею никакого права.
Отпуская меня, барон сказал:
– Завтра мы еще поговорим. Приходите с бумагой.
В тот же день я присутствовал на торжественном обеде в квартире начальника острова. Тут я познакомился почти со всею сахалинскою администрацией. За обедом играла музыка, произносились речи. А. Н. Корф, в ответ на тост за его здоровье, сказал короткую речь, из которой мне теперь припоминаются слова: «Я убедился, что на Сахалине несчастным живется легче, чем где-либо в России и даже Европе. В этом отношении вам предстоит сделать еще многое, так как путь добра бесконечен». Он пять лет назад был на Сахалине и теперь находил прогресс значительным, превосходившим всякие ожидания. Его похвальное слово не мирилось в сознании с такими явлениями, как голод, повальная проституция ссыльных женщин, жестокие телесные наказания, но слушатели должны были верить ему: настоящее в сравнении с тем, что происходило пять лет назад, представлялось чуть ли не началом золотого века.
Вечером была иллюминация. По улицам, освещенным плошками и бенгальским огнем, до позднего вечера гуляли толпами солдаты, поселенцы и каторжные. Тюрьма была открыта. Река Дуйка, всегда убогая, грязная, с лысыми берегами, а теперь украшенная по обе стороны разноцветными фонарями и бенгальскими огнями, которые отражались в ней, была на этот раз красива, даже величественна, но и смешна, как кухаркина дочь, на которую для примерки надели барышнино платье. В саду генерала играла музыка, и пели певчие. Даже из пушки стреляли, и пушку разорвало. И все-таки, несмотря на такое веселье, на улицах было скучно. Ни песен, ни гармоники, ни одного пьяного; люди бродили, как тени, и молчали, как тени. Каторга и при бенгальском освещении остается каторгой, а музыка, когда ее издали слышит человек, который никогда уже не вернется на родину, наводит только смертную тоску.
Когда я явился к генерал-губернатору с бумагой, он изложил мне свой взгляд на сахалинскую каторгу и колонию и предложил записать всё, сказанное им, что я, конечно, исполнил очень охотно. Всё записанное он предложил мне озаглавить так: «Описание жизни несчастных». Из нашей последней беседы и из того, что я записал под его диктовку, я вынес убеждение, что это великодушный и благородный человек, но что «жизнь несчастных» была знакома ему не так близко, как он думал. Вот несколько строк из описания: «Никто не лишен надежды сделаться полноправным; пожизненности наказания нет. Бессрочная каторга ограничивается 20-ю годами. Каторжные работы не тягостны. Труд подневольный не дает работнику личной пользы – в этом его тягость, а не в напряжении физическом. Цепей нет, часовых нет, бритых голов нет».
Дни стояли хорошие, с ясным небом и с прозрачным воздухом, похожие на наши осенние дни. Вечера были превосходные; припоминается мне пылающий запад, темно-синее море и совершенно белая луна, выходящая из-за гор. В такие вечера я любил кататься по долине между постом и деревней Ново-Михайловкой; дорога здесь гладкая, ровная, рядом с ней рельсовый путь для вагонеток, телеграф. Чем дальше от Александровска, тем долина становится уFже, потемки густеют, гигантские лопухи начинают казаться тропическими растениями; со всех сторон надвигаются темные горы. Вон вдали огни, где жгут уголь, вон огонь от пожара. Восходит луна. Вдруг фантастическая картина: мне навстречу по рельсам, подпираясь шестом, катит на небольшой платформе каторжный в белом. Становится жутко.
– Не пора ли назад? – спрашиваю кучера.
Кучер-каторжный поворачивает лошадей, потом оглядывается на горы и огни и говорит:
– Скучно здесь, ваше высокоблагородие. У нас в России лучше.
III
Чтобы побывать по возможности во всех населенных местах и познакомиться поближе с жизнью большинства ссыльных, я прибегнул к приему, который в моем положении казался мне единственным. Я сделал перепись. В селениях, где я был, я обошел все избы и записал хозяев, членов их семей, жильцов и работников. Чтобы облегчить мой труд и сократить время, мне любезно предлагали помощников, но так как, делая перепись, я имел главною целью не результаты ее, а те впечатления, которые дает самый процесс переписи, то я пользовался чужою помощью только в очень редких случаях. Эту работу, произведенную в три месяца одним человеком, в сущности, нельзя назвать переписью; результаты ее не могут отличаться точностью и полнотой, но, за неимением более серьезных данных ни в литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть может, пригодятся и мои цифры.
Для переписи я пользовался карточками, которые были напечатаны для меня в типографии при полицейском управлении. Самый процесс переписи заключался в следующем. Прежде всего, на каждой карточке в первой строке я отмечал название поста или селения. Во второй строке: номер дома по казенной подворной описи. Затем, в третьей строке, звание записываемого: каторжный, поселенец, крестьянин из ссыльных, свободного состояния. Свободных я записывал только в тех случаях, если они принимали непосредственное участие в хозяйстве ссыльного, например, состояли с ним в браке, законном или незаконном, и вообще принадлежали к семье его или проживали в его избе в качестве работника или жильца и т. п.
Званию в сахалинском обиходе придается большое значение. Каторжного, несомненно, стесняет его звание; на вопрос, какого он звания, он отвечает: «рабочий». Если же до каторги он был солдатом, то непременно добавляет еще к этому: «из солдат, ваше высокоблагородие». Отбыв или, как сам он выражается, отслужив свой срок, он становится поселенцем. Это новое звание не считается низким уже потому, что слово «поселенец» мало чем отличается от поселянина, не говоря уже о правах, какие сопряжены с этим званием. На вопрос, кто он, поселенец обыкновенно отвечает так: «вольный». Через десять, а при благоприятных условиях, оговоренных в уставе о ссыльных, через шесть лет поселенец получает звание крестьянина из ссыльных. На вопрос, какого он звания, крестьянин отвечает не без достоинства, как будто уж не может идти в счет с прочими и отличается от них чем-то особенным: «Я крестьянин». Но без прибавки «из ссыльных». Я не спрашивал ссыльных о прежнем их звании, так как по этому пункту в канцеляриях имеется достаточно сведений. Сами они, кроме солдат, ни мещане, ни купцы, ни духовные, не распространяются насчет своего утерянного звания, как будто оно уже забыто, а называют свое прежнее состояние коротко – волей. Если кто заводит разговор о своем прошлом, то обыкновенно начинает так: «Когда я жил на воле…» и т. д.
Четвертая строка: имя, отчество и фамилия. Насчет имен могу только вспомнить, что я, кажется, не записал правильно ни одного женского татарского имени. В татарской семье, где много девочек, а отец и мать едва понимают по-русски, трудно добиться толку и приходится записывать наугад. И в казенных бумагах татарские имена пишутся тоже неправильно.
Случается, что православный русский мужичок на вопрос, как его зовут, отвечает не шутя: «Карл». Это бродяга, который по дороге сменился именем с каким-то немцем. Таких, помнится, записано мною двое: Карл Лангер и Карл Карлов. Есть каторжный, которого зовут Наполеоном. Есть женщина-бродяга Прасковья, она же Марья. Что касается фамилий, то по какой-то странной случайности на Сахалине много Богдановых и Беспаловых. Много курьезных фамилий: Шкандыба, Желудок, Безбожный, Зевака. Татарские фамилии, как мне говорили, сохраняют и на Сахалине, несмотря на лишение всех прав состояния, приставки и частицы, означающие высокие звания и титулы. Насколько это верно, не знаю, но ханов, султанов и оглы записал я немало. У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия Непомнящий. Вот несколько бродяжеских прозвищ: Мустафа Непомнящий, Василий Безотечества, Франц Непомнящий, Иван Непомнящий 20 лет, Яков Беспрозвания, бродяга Иван 35 лет[8 - Это число составляет часть фамилии. В действительности ему 48 лет.]. Человек Неизвестного Звания.
В этой же строке я отмечал отношения записываемого к хозяину: жена, сын, сожительница, работник, жилец, сын жильца и т. д. Записывая детей, я отличал законно- и незаконнорожденных, родных и приемных. Кстати сказать, приемыши часто встречаются на Сахалине, и мне приходилось записывать не только приемных детей, но и приемных отцов. Многие из живущих в избах относятся к хозяевам как совладельцы или половинщики. В обоих северных округах на одном участке сидят по два и даже по три владельца, и так – больше, чем в половине хозяйств; поселенец садится на участок, строит дом и обзаводится хозяйством, а через два-три года ему сажают совладельца или же один участок дают сразу двум поселенцам. Это происходит от нежеланья и неуменья администрации приискивать новые места для поселений. Бывает и так, что отбывший каторгу просит, чтобы ему позволили поселиться в таком посту или селении, где усадебных мест уже нет, и его поневоле приходится сажать уже на готовое хозяйство. Количество совладельцев особенно увеличивается после объявления высочайших манифестов, когда администрация бывает вынуждена приискивать места сразу для нескольких сотен душ.
Пятая строка: возраст. Женщины, которым уже за сорок, плохо помнят свои лета и отвечают на вопрос, подумав. Армяне из Эриванской губ<ернии> совсем не знают своего возраста. Один из них ответил мне так: «Может, тридцать, а может, уже и пятьдесят». В таких случаях приходилось определять возраст приблизительно, на глаз, и потом проверять по статейному списку. Молодежь 15 лет и постарше обыкновенно убавляет свои лета. Иная уже невеста или давно уже занимается проституцией, а ей всё еще 13–14 лет. Дело в том, что дети и подростки в беднейших семьях получают от казны кормовые, которые выдаются только до 15 лет, и тут молодых людей и их родителей простой расчет побуждает говорить неправду.
Шестая строка относилась к вероисповеданию.
Седьмая: где родился? На этот вопрос мне отвечали без малейшего затруднения, и только бродяги отвечали каким-нибудь острожным каламбуром или «не помню». Девица Наталья Непомнящая, когда я спросил ее, какой она губернии, сказала мне: «Всех понемножку». Земляки заметно держатся друг друга, вместе ведут компанию, и, коли бегут, то тоже вместе; туляк предпочитает идти в совладельцы к туляку, бакинец к бакинцу. По-видимому, существуют землячества. Когда случалось спрашивать про отсутствующего, то земляки давали о нем самые подробные сведения.
Восьмая строка: с какого года на Сахалине? Редкий сахалинец отвечал на этот вопрос сразу, без напряжения. Год прибытия на Сахалин – год страшного несчастья, а между тем его не знают или не помнят. Спрашиваешь каторжную бабу, в каком году ее привезли на Сахалин, а она отвечает вяло, не думая: «Кто ж его знает? Должно, в 83-м». Вмешивается муж или сожитель: «Ну, что зря языком болтать? Ты пришла в 85-м». – «Может, и в 85-м», – соглашается она со вздохом. Начинаем считать, и мужик выходит прав. Мужчины не так туги, как бабы, но и они дают ответ не сразу, а подумав и поговорив.
– Тебя в каком году пригнали на Сахалин? – спрашиваю я поселенца.
– Я одного сплава с Гладким, – говорит он неуверенно, поглядывая на товарищей.
Гладкий первого сплава, а первый сплав, то есть первый «Доброволец»[9 - Так в просторечии называли пароходы Добровольного флота, общества, возникшего после русско-турецкой войны в ответ на потребность «скорого и удобного сообщения» с Дальним Востоком морским путем. Добровольный флот был создан на пожертвования народа.], пришел на Сахалин в 1879 г. Так и записываю. Или бывает такой ответ: «В каторге я пробыл шесть лет, да вот в поселенцах уж третий год… Вот и считайте». – «Значит, ты на Сахалине уже девятый год?» – «Никак нет. До Сахалина я еще в централе отсидел два года». И т. д. Или такой ответ: «Я пришел в тот год, когда Дербина убили». Или: «Тогда Мицуль помер». Для меня было особенно важно получать верные ответы от тех, которые пришли сюда в шестидесятых и семидесятых годах; мне хотелось не пропустить ни одного из них, что, по всей вероятности, не удалось мне. Сколько уцелело из тех, которые пришли сюда 20–25 лет назад? – вопрос, можно сказать, роковой для сахалинской колонизации.
В девятой строке я записывал главное занятие и ремесло.
В десятой – грамотность. Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме: «Знаешь ли грамоте?» – я же спрашивал так: «Умеешь ли читать?» – и это во многих случаях спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать только по-печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами. «Где уж нам? Какая наша грамота?» – и лишь при повторении вопроса говорят: «Разбирал когда-то по-печатному, да теперь, знать, забыл. Народ мы темный, одно слово – мужики». Неграмотными называют себя также плохо видящие глазами и слепые.
Одиннадцатая относилась к семейному состоянию: женат, вдов, холост? Если женат, то где: на родине, на Сахалине? Слова «женат, вдов, холост» на Сахалине еще не определяют семейного положения; здесь очень часто женатые бывают обречены на одинокую безбрачную жизнь, так как супруги их живут на родине и не дают им развода, а холостые и вдовые живут семейно и имеют по полдюжине детей; поэтому ведущих холостую жизнь не формально, а на самом деле, хотя бы они значились женатыми, я считал не лишним отмечать словом «одинок». Нигде в другом месте России незаконный брак не имеет такого широкого и гласного распространения и нигде он не облечен в такую оригинальную форму, как на Сахалине. Незаконное, или, как называют здесь, свободное, сожительство не встречает себе противников ни в начальстве, ни в духовенстве, а, наоборот, поощряется и санкционируется. Есть поселения, где не встретишь ни одного законного сожительства. Свободные пары составляют хозяйства на тех же основаниях, как и законные; они рождают для колонии детей, а потому нет причин при регистрации создавать для них особые правила.
Наконец, двенадцатая строка: получает ли пособие от казны? Из ответов на этот вопрос я хотел выяснить, какая часть населения не в состоянии обойтись без материальной поддержки от казны, или, другими словами, кто кормит колонию: она сама себя или казна? Пособие от казны, кормовое или вещевое, или денежное, обязательно получают все каторжные, поселенцы в первые годы по отбытии каторги, богадельщики и дети беднейших семей. Кроме этих официально признанных пенсионеров, я отметил живущими на счет казны также и тех ссыльных, которые получают от нее жалованье за разные услуги, например: учителя, писаря, надзиратели и т. п. Но ответ получился неполный. Кроме обычных пайков, кормовых и жалований, в широких размерах практикуется еще выдача таких пособий, которые невозможно отметить на карточках, например: пособие при вступлении в брак, покупка у поселенцев зерна по умышленно дорогой цене, а главное, выдача семян, скота и пр. в долг. Иной поселенец должен в казну несколько сот рублей и никогда их не отдаст, но я поневоле должен был записать его не получающим пособия.
Каждую женскую карточку я перечеркивал вдоль красным карандашом и нахожу, что это удобнее, чем иметь особую рубрику для отметки пола. Я записывал только наличных членов семьи; если мне говорили, что старший сын уехал во Владивосток на заработки, а второй служит в селении Рыковском в работниках, то я первого не записывал вовсе, а второго заносил на карточку в месте его жительства.
Я ходил из избы в избу один; иногда сопровождал меня какой-нибудь каторжный или поселенец, бравший на себя от скуки роль проводника. Иногда за мной или на некотором расстоянии следовал, как тень, надзиратель с револьвером. Это посылали его на случай, если я потребую каких-нибудь разъяснений. Когда я обращался к нему с каким-нибудь вопросом, то лоб у него мгновенно покрывался потом и он отвечал: «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» Обыкновенно спутник мой, босой и без шапки, с моею чернильницей в руках, забегал вперед, шумно отворял дверь и в сенях успевал что-то шепнуть хозяину – вероятно, свои предположения насчет моей переписи. Я входил в избу. На Сахалине попадаются избы всякого рода, смотря по тому, кто строил – сибиряк, хохол или чухонец, но чаще всего – это небольшой сруб, аршин в шесть, двух- или трехоконный, без всяких наружных украшений, крытый соломой, корьем и редко тесом. Двора обыкновенно нет. Возле ни одного деревца. Сараишко или банька на сибирский манер встречаются редко. Если есть собаки, то вялые, не злые, которые, как я говорил уже, лают на одних только гиляков, вероятно, потому, что те носят обувь из собачьей шкуры. И почему-то эти смирные, безобидные собаки на привязи. Если есть свинья, то с колодкой на шее. Петух тоже привязан за ногу.
– Зачем это у тебя собака и петух привязаны? – спрашиваю хозяина.
– У нас на Сахалине все на цепи, – острит он в ответ. – Земля уж такая.
В избе одна комната, с русскою печкой. Полы деревянные. Стол, два-три табурета, скамья, кровать с постелью или же постлано прямо на полу. Или так, что нет никакой мебели и только среди комнаты лежит на полу перина, и видно, что на ней только что спали; на окне чашка с объедками. По обстановке это не изба, не комната, а скорее камера для одиночного заключения. Где есть женщины и дети, там, как бы ни было, похоже на хозяйство и на крестьянство, но всё же и там чувствуется отсутствие чего-то важного; нет деда и бабки, нет старых образов и дедовской мебели, стало быть, хозяйству недостает прошлого, традиций. Нет красного угла, или он очень беден и тускл, без лампады и без украшений, – нет обычаев; обстановка носит случайный характер, и похоже, как будто семья живет не у себя дома, а на квартире, или будто она только что приехала и еще не успела освоиться; нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка… а главное, нет родины.
Картины, которые я встречал, обыкновенно не говорили мне о домовитости, уютности и о прочности хозяйств. Чаще всего я встречал в избе самого хозяина, одинокого, скучающего бобыля, который, казалось, окоченел от вынужденного безделья и скуки; на нем вольное платье, но по привычке шинель накинута на плечи по-арестантски, и если он недавно вышел из тюрьмы, то на столе у него валяется фуражка без козырька. Печка не топлена, посуды только и есть, что котелок да бутылка, заткнутая бумажкой. Сам он о своей жизни и о своем хозяйстве отзывается насмешливо, с холодным презрением. Говорит, что уже всякие способы перепробовал, но никакого толку не выходит; остается одно: махнуть на всё рукой. Пока говоришь с ним, в избу собираются соседи и начинается разговор на разные темы: о начальстве, климате, женщинах… От скуки все готовы говорить и слушать без конца. Бывает и так, что, кроме хозяина, застаешь в избе еще целую толпу жильцов и работников; на пороге сидит жилец-каторжный с ремешком на волосах и шьет чирки; пахнет кожей и сапожным варом; в сенях на лохмотьях лежат его дети, и тут же в темном и тесном углу его жена, пришедшая за ним добровольно, делает на маленьком столике вареники с голубикой; это недавно прибывшая из России семья. Дальше, в самой избе, человек пять мужчин, которые называют себя кто – жильцом, кто – работником, а кто – сожителем; один стоит около печки и, надув щеки, выпучив глаза, паяет что-то; другой, очевидно, шут, с деланно-глупою физиономией, бормочет что-то, остальные хохочут в кулаки. А на постели сидит вавилонская блудница, сама хозяйка Лукерья Непомнящая, лохматая, тощая, с веснушками; она старается посмешнее отвечать на мои вопросы и болтает при этом ногами. Глаза у нее нехорошие, мутные, и по испитому, апатичному лицу я могу судить, сколько на своем еще коротком веку переиспытала она тюрем, этапов, болезней. Эта Лукерья задает в избе общий тон жизни, и благодаря ей на всей обстановке сказывается близость ошалелого, беспутного бродяги. Тут уж о серьезном хозяйстве не может быть и речи.
Приходилось также заставать в избе целую компанию, которая до моего прихода играла в карты; на лицах смущение, скука и ожидание: когда я уйду, чтобы опять можно было приняться за карты. Или входишь в избу, и намека нет на мебель, печь голая, а на полу у стен рядышком сидят черкесы, одни в шапках, другие с непокрытыми стрижеными и, по-видимому, очень жесткими головами, и смотрят на меня не мигая. Если я заставал дома одну только сожительницу, то обыкновенно она лежала в постели, отвечала на мои вопросы, зевая и потягиваясь, и, когда я уходил, опять ложилась.
Ссыльное население смотрело на меня, как на лицо официальное, а на перепись – как на одну из тех формальных процедур, которые здесь так часты и обыкновенно ни к чему не ведут. Впрочем, то обстоятельство, что я не здешний, не сахалинский чиновник, возбуждало в ссыльных некоторое любопытство. Меня спрашивали:
– Зачем это вы всех нас записываете?
И тут начинались разные предположения. Одни говорили, что, вероятно, высшее начальство хочет распределить пособие между ссыльными, другие – что, должно быть, уж решили наконец переселять всех на материк, – а здесь упорно и крепко держится убеждение, что рано или поздно каторга с поселениями будет переведена на материк, – третьи, прикидываясь скептиками, говорили, что они не ждут уже ничего хорошего, так как от них сам бог отказался, и это для того, чтобы вызвать с моей стороны возражение. А из сеней или с печки, как бы в насмешку над всеми этими надеждами и догадками, доносился голос, в котором слышались усталость, скука и досада на беспокойство:
– И всё они пишут, и всё они пишут, и всё они пишут, царица небесная!
Голодать и вообще терпеть какие-либо лишения во время моих разъездов по Сахалину мне не приходилось. Я читал, будто агроном Мицуль[10 - Мицуль М. С. (1843–1884) – агроном, участник экспедиции, посланной из Петербурга под начальством чиновника Власова в 1871 г., недолгое время был «заведующим каторжными».], исследуя остров, терпел сильную нужду и даже вынужден был съесть свою собаку. Но с тех пор обстоятельства значительно изменились. Теперешний агроном ездит по отличным дорогам; даже в самых бедных селениях есть надзирательские, или так называемые станки, где всегда можно найти теплое помещение, самовар и постель. Исследователи, когда отправляются в глубь острова, в тайгу, то берут с собой американские консервы, красное вино, тарелки, вилки, подушки и всё, что только можно взвалить на плечи каторжным, заменяющим на Сахалине вьючных животных. Случается и теперь, что люди питаются гнилушками с солью и даже поедают друг друга, но это относится не к туристам и не к чиновникам.
В следующих главах я буду описывать посты и селения и попутно знакомить читателя с каторжными работами и тюрьмами, поскольку я сам успел познакомиться с ними в короткое время. На Сахалине каторжные работы разнообразны в высшей степени; они не специализировались на золоте или угле, а обнимают весь обиход сахалинской жизни и разбросаны по всем населенным местам острова. Корчевка леса, постройки, осушка болот, рыбные ловли, сенокос, нагрузка пароходов – всё это виды каторжных работ, которые по необходимости до такой степени слились с жизнью колонии, что выделять их и говорить о них как о чем-то самостоятельно существующем на острове можно разве только при известном рутинном взгляде на дело, который на каторге ищет прежде всего рудников и заводских работ.
Я начну с Александровской долины, с селений, расположенных на реке Дуйке. На Северном Сахалине эта долина была первая избрана для поселений не потому, что она лучше всех исследована или отвечает целям колонизации, а просто случайно, благодаря тому обстоятельству, что она была ближайшей к Дуэ, где впервые возникла каторга.