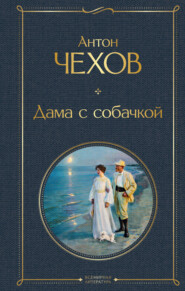По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь (сборник)
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет… Спящие гласные, кассиры… – забормотал Рыбкин, как бы ища за что ухватиться, – дворянский банк, паспортная система… упразднение чинов, Румелия… Бог с ними!
– Ну, как знаешь…
Рыбкин накинул себе петлю на шею и с удовольствием повесился. Шлепкин сел за стол и в один миг написал: заметку о самоубийстве, некролог Рыбкина, фельетон по поводу частых самоубийств, передовую об усилении кары, налагаемой на самоубийц, и еще несколько других статей на ту же тему. Написав всё это, он положил в карман и весело побежал в редакцию, где его ждали мзда, слава и читатели.
На чужбине
Воскресный полдень. Помещик Камышев сидит у себя в столовой за роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С ним разделяет трапезу чистенький, гладко выбритый старик французик, m-r Шампунь. Этот Шампунь был когда-то у Камышева гувернером, учил его детей манерам, хорошему произношению и танцам, потом же, когда дети Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности бывшего гувернера не сложны. Он должен прилично одеваться, пахнуть духами, выслушивать праздную болтовню Камышева, есть, пить, спать – и больше, кажется, ничего. За это он получает стол, комнату и неопределенное жалованье.
Камышев ест и, по обыкновению, празднословит.
– Смерть! – говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей. – Уф! В голову и во все суставы ударило. А вот от вашей французской горчицы не будет этого, хоть всю банку съешь.
– Кто любит французскую, а кто русскую… – кротко заявляет Шампунь.
– Никто не любит французской, разве только одни французы. А французу что ни подай – всё съест: и лягушку, и крысу, и тараканов… брр! Вам, например, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете есть и причмокивать… По-вашему, всё русское скверно.
– Я этого не говорю.
– Всё русское скверно, а французское – о, сэ трэ жоли![21 - Это очень мило! (от франц. – c’est trs joli)] По-вашему, лучше и страны нет, как Франция, а по-моему… ну, что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли! Пошли туда нашего исправника, так он через месяц же перевода запросит: повернуться негде! Вашу Францию всю в один день объездить можно, а у нас выйдешь за ворота – конца краю не видно! Едешь, едешь…
– Да, monsieur, Россия громадная страна.
– То-то вот и есть! По-вашему, лучше французов и людей нет. Ученый, умный народ. Цивилизация! Согласен, французы все ученые, манерные… это верно… Француз никогда не позволит себе невежества: вовремя даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но… нет того духу! Духу того в нем нет! Я не могу только вам объяснить, но, как бы это выразиться, во французе не хватает чего-то такого, этакого (говорящий шевелит пальцами), чего-то такого… юридического. Я, помню, читал где-то, что у вас у всех ум приобретенный, из книг, а у нас ум врожденный. Если русского обучить как следует наукам, то никакой ваш профессор не сравняется.
– Может быть… – как бы нехотя говорит Шампунь.
– Нет, не может быть, а верно! Нечего морщиться, правду говорю! Русский ум – изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не умеет… Изобретет что-нибудь и поломает или же детишкам отдаст поиграть, а ваш француз изобретет какую-нибудь чепуху и на весь свет кричит. Намедни кучер Иона сделал из дерева человечка: дернешь этого человечка за ниточку, а он и сделает непристойность. Однако же Иона не хвастает. Вообще… не нравятся мне французы! Я про вас не говорю, а вообще… Безнравственный народ! Наружностью словно как бы и на людей походят, а живут как собаки… Взять хоть, например, брак. У нас коли женился, так прилепись к жене и никаких разговоров, а у вас чёрт знает что. Муж целый день в кафе сидит, а жена напустит полный дом французов и давай с ними канканировать.
– Это неправда! – не выдерживает Шампунь, вспыхивая. – Во Франции семейный принцип стоит очень высоко!
– Знаем мы этот принцип! А вам стыдно защищать. Надо беспристрастно: свиньи, так и есть свиньи… Спасибо немцам за то, что побили… Ей-богу, спасибо. Дай бог им здоровья…
– В таком случае, monsieur, я не понимаю, – говорит француз, вскакивая и сверкая глазами, – если вы ненавидите французов, то зачем вы меня держите?
– Куда же мне вас девать?
– Отпустите меня, и я уеду во Францию!
– Что-о-о? Да нешто вас пустят теперь во Францию? Ведь вы изменник своему отечеству! То у вас Наполеон великий человек, то Гамбетта… сам чёрт вас не разберет!
– Monsieur, – говорит по-французски Шампунь, брызжа и комкая в руках салфетку. – Выше оскорбления, которое вы нанесли сейчас моему чувству, не мог бы придумать и враг мой! Всё кончено!!
И, сделав рукой трагический жест, француз манерно бросает на стол салфетку и с достоинством выходит.
Часа через три на столе переменяется сервировка и прислуга подает обед. Камышев садится за обед один. После предобеденной рюмки у него является жажда празднословия. Поболтать хочется, а слушателя нет…
– Что делает Альфонс Людовикович? – спрашивает он лакея.
– Чемодан укладывают-с.
– Экая дуррында, прости господи!.. – говорит Камышев и идет к французу.
Шампунь сидит у себя на полу среди комнаты и дрожащими руками укладывает в чемодан белье, флаконы из-под духов, молитвенники, помочи, галстуки… Вся его приличная фигура, чемодан, кровать и стол так и дышат изяществом и женственностью. Из его больших голубых глаз капают в чемодан крупные слезы.
– Куда же это вы? – спрашивает Камышев, постояв немного.
Француз молчит.
– Уезжать хотите? – продолжает Камышев. – Что ж, как знаете… Не смею удерживать… Только вот что странно: как это вы без паспорта поедете? Удивляюсь! Вы знаете, я ведь потерял ваш паспорт. Сунул его куда-то между бумаг, он и потерялся… А у нас насчет паспортов строго. Не успеете и пяти верст проехать, как вас сцарапают.
Шампунь поднимает голову и недоверчиво глядит на Камышева.
– Да… Вот увидите! Заметят по лицу, что вы без паспорта, и сейчас: кто таков? Альфонс Шампунь! Знаем мы этих Альфонсов Шампуней! А не угодно ли вам по этапу в не столь отдаленные!
– Вы это шутите?
– С какой стати мне шутить! Очень мне нужно! Только смотрите, условие: не извольте потом хныкать и письма писать. И пальцем не пошевельну, когда вас мимо в кандалах проведут!
Шампунь вскакивает и, бледный, широкоглазый, начинает шагать по комнате.
– Что вы со мной делаете?! – говорит он, в отчаянии хватая себя за голову. – Боже мой! О, будь проклят тот час, когда мне пришла в голову пагубная мысль оставить отечество!
– Ну, ну, ну… я пошутил! – говорит Камышев, понизив тон. – Чудак какой, шуток не понимает! Слова сказать нельзя!
– Дорогой мой! – взвизгивает Шампунь, успокоенный тоном Камышева. – Клянусь вам, я привязан к России, к вам и к вашим детям… Оставить вас для меня так же тяжело, как умереть! Но каждое ваше слово режет мне сердце!
– Ах, чудак! Если я французов ругаю, так вам-то с какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаем, так всем и обижаться? Чудак, право! Берите пример вот с Лазаря Исакича, арендатора… Я его и так, и этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю… не обижается же!
– Но то ведь раб! Из-за копейки он готов на всякую низость!
– Ну, ну, ну… будет! Пойдем обедать! Мир и согласие!
Шампунь пудрит свое заплаканное лицо и идет с Камышевым в столовую. Первое блюдо съедается молча, после второго начинается та же история, и таким образом страдания Шампуня не имеют конца.
Циник
Полдень. Управляющий «Зверинца братьев Пихнау», отставной портупей-юнкер Егор Сюсин, здоровеннейший парень с обрюзглым, испитым лицом, в грязной сорочке и в засаленном фраке, уже пьян. Перед публикой вертится он, как чёрт перед заутреней: бегает, изгибается, хихикает, играет глазами и словно кокетничает своими угловатыми манерами и расстегнутыми пуговками. Когда его большая стриженая голова бывает наполнена винными парами, публика любит его. В это время он «объясняет» зверей не просто, а по новому, ему одному только принадлежащему способу.
– Как объяснять? – спрашивает он публику, подмигивая глазом. – Просто или с психологией и тенденцией?
– С психологией и тенденцией!
– Bene![22 - Хорошо! (лат.)] Начинаю! Африканский лев! – говорит он, покачиваясь и насмешливо глядя на льва, сидящего в углу клетки и кротко мигающего глазами. – Синоним могущества, соединенного с грацией, краса и гордость фауны! Когда-то, в дни молодости, пленял своею мощью и ревом наводил ужас на окрестности, а теперь… Хо-хо-хо… а теперь, болван этакий, сидит в клетке… Что, братец лев? Сидишь? Философствуешь? А небось, как по лесам рыскал, так – куда тебе! – думал, что сильнее и зверя нет, что и чёрт тебе не брат, – ан и вышло, что дура судьба сильнее… хоть и дура она, а сильнее… Хо-хо-хо! Ишь ведь, куда черти занесли из Африки! Чай, и не снилось, что сюда попадешь! Меня тоже, братец ты мой, ух как черти носили! Был я и в гимназии, и в канцелярии, и в землемерах, и на телеграфе, и на военной, и на макаронной фабрике… и чёрт меня знает, где я только не был! В конце концов в зверинец попал… в вонь… Хо-хо-хо!
И публика, зараженная искренним смехом пьяного Сюсина, сама гогочет.
– Чай, хочется на свободу! – мигает глазом на льва малый, пахнущий краской и покрытый разноцветными жирными пятнами.