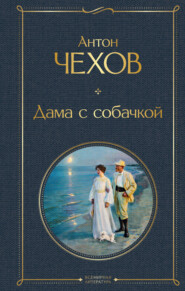По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы. Повести. 1888-1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кузька вздрогнул и открыл глаза. Он увидел перед собой некрасивое, сморщенное, заплаканное лицо, рядом с ним – другое, старушечье, беззубое, с острым подбородком и горбатым носом, а выше них бездонное небо с бегущими облаками и луной, и вскрикнул от ужаса. Софья тоже вскрикнула; им обоим ответило эхо, и в душном воздухе пронеслось беспокойство; застучал по соседству сторож, залаяла собака. Матвей Саввич пробормотал что-то во сне и повернулся на другой бок.
Поздно вечером, когда уже спали и Дюдя, и старуха, и соседний сторож, Софья вышла за ворота и села на лавочку. Ей было душно, и от слез разболелась голова. Улица была широкая и длинная; направо версты две, налево столько же, и конца ей не видно. Луна уже ушла от двора и стояла за церковью. Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чернела от теней; длинные тени тополей и скворешен тянулись через всю улицу, а тень от церкви, черная и страшная, легла широко и захватила ворота Дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо. С конца улицы изредка доносилась едва слышная музыка; должно быть, это Алёшка играл на своей гармонике.
В тени около церковной ограды кто-то ходил, и нельзя было разобрать, человек это или корова, или, быть может, никого не было, и только большая птица шуршала в деревьях. Но вот из тени вышла одна фигура, остановилась и сказала что-то мужским голосом, потом скрылась в переулке около церкви. Немного погодя, саженях в двух от ворот, показалась еще фигура; она шла от церкви прямо к воротам и, увидев на лавочке Софью, остановилась.
– Варвара, ты, что ли? – спросила Софья.
– А хоть бы и я.
Это была Варвара. Она минуту постояла, потом подошла к лавочке и села.
– Ты где ходила? – спросила Софья. Варвара ничего не ответила.
– Не нагуляла бы ты себе, молодайка, какого горя, – сказала Софья. – Слыхала, как Машеньку и ногами, и вожжами? Тебе бы, гляди, того не было.
– А пускай.
Варвара засмеялась в платок и сказала шёпотом:
– С поповичем сейчас гуляла.
– Болтаешь.
– Ей-богу.
– Грех! – шепнула Софья.
– А пускай… Чего жалеть? Грех, так грех, а лучше пускай гром убьет, чем такая жизнь. Я молодая, здоровая, а муж у меня горбатый, постылый, крутой, хуже Дюди проклятого. В девках жила, куска не доедала, босая ходила и ушла от тех злыдней, польстилась на Алёшкино богатство и попала в неволю, как рыба в вершу, и легче мне было бы с гадюкой спать, чем с этим Алёшкой паршивым. А твоя жизнь? Не глядели б мои глаза. Твой Федор прогнал тебя с завода к отцу, а сам себе другую завел; мальчишку у тебя отняли и в неволю отдали. Работаешь ты, словно лошадь, и доброго слова не слышишь. Лучше весь свой век в девках маяться, лучше с поповичей полтинники брать, милостыню собирать, лучше в колодезь головой…
– Грех! – опять шепнула Софья.
– А пускай.
Где-то за церковью опять запели печальную песню те же самые три голоса: два тенора и бас. И опять нельзя было разобрать слов.
– Полунощники…. – засмеялась Варвара.
И она стала рассказывать шёпотом, как она по ночам гуляет с поповичем, и что он ей говорит, и какие у него товарищи, и как она с проезжими чиновниками и купцами гуляла. От печальной песни потянуло свободной жизнью, Софья стала смеяться, ей было и грешно, и страшно, и сладко слушать, и завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грешила, когда была молода и красива…
На погосте в старой церкви ударили полночь.
– Пора спать, – сказала Софья, вставая, – а то как бы Дюдя не хватился.
Обе тихо пошли во двор.
– Я ушла и не слыхала, что он после про Машеньку рассказывал, – сказала Варвара, постилая под окном.
– Померла, говорит, в остроге. Мужа отравила.
Варвара легла рядом с Софьей, подумала и сказала тихо:
– Я бы своего Алёшку извела и не пожалела.
– Болтаешь, бог с тобой.
Когда Софья засыпала, Варвара прижалась к ней и шепнула на ухо:
– Давай Дюдю и Алёшку изведем!
Софья вздрогнула и ничего не сказала, потом открыла глаза и долго, не мигая, глядела на небо.
– Люди узнают, – сказала она.
– Не узнают. Дюдя уже старый, ему помирать пора, а Алёшка, скажут, от пьянства издох.
– Страшно… Бог убьет.
– А пускай…
Обе не спали и молча думали.
– Холодно, – сказала Софья, начиная дрожать всем телом. – Должно, утро скоро… Ты спишь?
– Нет… Ты меня не слушай, голубка, – зашептала Варвара. – Злоблюсь на них, проклятых, и сама не знаю, что говорю. Спи, а то уж заря занимается… Спи…
Обе замолчали, успокоились и скоро уснули.
Раньше всех проснулась старуха. Она разбудила Софью, и обе пошли под навес доить коров. Пришел горбатенький Алёшка, совершенно пьяный, без гармоники; грудь и колени у него были в пыли и соломе – должно быть, падал дорогой. Покачиваясь, он пошел под навес и, не раздеваясь, повалился в сани и тотчас же захрапел. Когда от восходившего солнца ярким пламенем загорелись кресты на церкви, потом окна, и через двор по росистой траве потянулись тени от деревьев и колодезного журавля, Матвей Саввич вскочил и засуетился.
– Кузька, вставай! – закричал он. – Запрягать пора! Живо!
Началась утренняя суматоха. Молодая жидовка, в коричневом платье с оборками, привела во двор лошадь на водопой. Заскрипел жалобно колодезный журавль, застучало ведро… Кузька сонный, вялый, покрытый росой, сидел на повозке, лениво надевал сюртучок и слушал, как в колодезе из ведра плескалась вода, и пожимался от холода.
– Тётка, – крикнул Матвей Саввич Софье, – тюкни моему парню, чтобы запрягать шел!
И Дюдя в это время кричал из окошка:
– Софья, возьми с жидовки за водопой копейку! Повадились, пархатые.
На улице взад и вперед бегали овцы и блеяли; бабы кричали на пастуха, а он играл на свирели, хлопал бичом или отвечал им тяжелым, сиплым басом. Во двор забежали три овцы и, не находя ворот, тыкались у забора. От шума проснулась Варвара, забрала в охапку постель и пошла к дому.
– Ты бы хоть овец выгнала! – крикнула ей старуха. – Барыня!
– Вот еще! Стану я на вас, иродов, работать, – проворчала Варвара, уходя в дом.
Подмазали повозку и запрягли лошадей. Из дома вышел Дюдя со счетами в руках, сел на крылечке и стал считать, сколько приходится с проезжего за ночлег, за овёс и водопой.
– Дорого, дедушка, за овёс кладешь, – сказал Матвей Саввич.