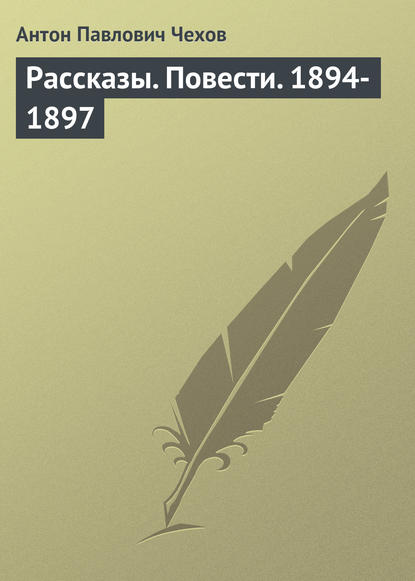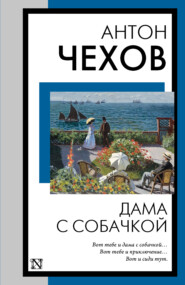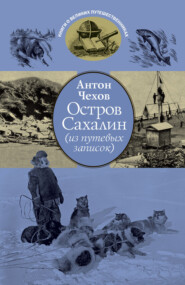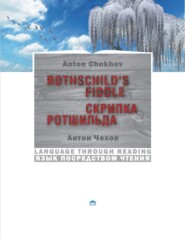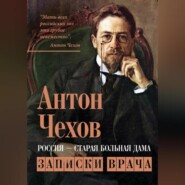По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы. Повести. 1894-1897
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я хочу домой, – проговорила она. – К папе и к няне.
Саша тоже заплакала. Костя ушел к себе наверх и сказал в телефон Юлии Сергеевне:
– Голубушка, девочки опять плачут. Нет никакой возможности.
Юлия Сергеевна прибежала из большого дома в одном платье и вязаном платке, прохваченная морозом, и начала утешать девочек.
– Верьте мне, верьте, – говорила она умоляющим голосом, прижимая к себе то одну, то другую, – ваш папа приедет сегодня, он прислал телеграмму. Жаль мамы, и мне жаль, сердце разрывается, но что же делать? Ведь не пойдешь против бога!
Когда они перестали плакать, она окутала их и повезла кататься. Сначала проехали по Малой Дмитровке, потом мимо Страстного на Тверскую; около Иверской остановились, поставили по свече и помолились, стоя на коленях. На обратном пути заехали к Филиппову и взяли постных баранок с маком.
Обедали Лаптевы в третьем часу. Кушанья подавал Петр. Этот Петр днем бегал то в почтамт, то в амбар, то в окружной суд для Кости, прислуживал; по вечерам он набивал папиросы, ночью бегал отворять дверь и в пятом часу утра уже топил печи, и никто не знал, когда он спит. Он очень любил откупоривать сельтерскую воду и делал это легко, бесшумно, не пролив ни одной капли.
– Дай бог! – сказал Костя, выпивая перед супом рюмку водки.
В первое время Костя не нравился Юлии Сергеевне; его бас, его словечки вроде выставил, заехал в харю, мразь, изобрази самоварчик, его привычка чокаться и причитывать за рюмкой казались ей тривиальными. Но, узнавши его покороче, она стала чувствовать себя в его присутствии очень легко. Он был с нею откровенен, любил по вечерам поговорить с нею вполголоса о чем-нибудь и даже давал ей читать романы своего сочинения, которые до сих пор составляли тайну даже для таких его друзей, как Лаптев и Ярцев. Она читала эти романы и, чтобы не огорчить его, хвалила, и он был рад, так как надеялся стать рано или поздно известным писателем. В своих романах он описывал только деревню и помещичьи усадьбы, хотя деревню видел очень редко, только когда бывал у знакомых на даче, а в помещичьей усадьбе был раз в жизни, когда ездил в Волоколамск по судебному делу. Любовного элемента он избегал, будто стыдился, природу описывал часто и при этом любил употреблять такие выражения, как прихотливые очертания гор, причудливые формы облаков или аккорд таинственных созвучий… Романов его нигде не печатали, и это объяснял он цензурными условиями.
Адвокатская деятельность нравилась ему, но всё же главным своим занятием считал он не адвокатуру, а эти романы. Ему казалось, что у него тонкая, артистическая организация, и его всегда тянуло к искусству. Сам он не пел и не играл ни на каком инструменте и совершенно был лишен музыкального слуха, но посещал все симфонические и филармонические собрания, устраивал концерты с благотворительною целью, знакомился с певцами…
Во время обеда разговаривали.
– Удивительное дело, – сказал Лаптев, – опять меня поставил в тупик мой Федор! Надо, говорит, узнать, когда исполнится столетие нашей фирмы, чтобы хлопотать о дворянстве, и говорит это самым серьезным образом. Что с ним поделалось? Откровенно говоря, я начинаю беспокоиться.
Говорили о Федоре, о том, что теперь мода напускать на себя что-нибудь. Например, Федор старается казаться простым купцом, хотя он уже не купец, и когда приходит к нему за жалованьем учитель из школы, где старик Лаптев попечителем, то он даже меняет голос и походку и держится с учителем, как начальник.
После обеда нечего было делать, пошли в кабинет. Говорили о декадентах, об «Орлеанской деве», и Костя прочел целый монолог; ему казалось, что он очень удачно подражает Ермоловой. Потом сели играть в винт. Девочки не уходили к себе во флигель, а бледные, печальные сидели, обе в одном кресле, и прислушивались к шуму на улице: не отец ли едет? По вечерам, в темноте и при свечах, они испытывали тоску. Разговор за винтом, шаги Петра, треск в камине раздражали их, и не хотелось смотреть на огонь; по вечерам и плакать уже не хотелось, но было жутко и давило под сердцем. И было непонятно, как это можно говорить о чем-нибудь и смеяться, когда умерла мама.
– Что вы сегодня видели в бинокль? – спросила Юлия Сергеевна у Кости.
– Сегодня ничего, а вчера сам старик француз ванну принимал.
В семь часов Юлия Сергеевна и Костя уехали в Малый театр. Лаптев остался с девочками.
– А пора бы уже вашему папе приехать, – говорил он, посматривая на часы. – Должно быть, поезд опоздал.
Девочки сидели в кресле, молча, прижавшись друг к другу, как зверки, которым холодно, а он всё ходил по комнатам и с нетерпением посматривал на часы. В доме было тихо. Но вот уже в конце девятого часа кто-то позвонил. Петр пошел отворять.
Услышав знакомый голос, девочки вскрикнули, зарыдали и бросились в переднюю. Панауров был в роскошной дохе, и борода и усы у него побелели от мороза.
– Сейчас, сейчас, – бормотал он, а Саша и Лида, рыдая и смеясь, целовали ему холодные руки, шапку, доху. Красивый, томный, избалованный любовью, он, не спеша, приласкал девочек, потом вошел в кабинет и сказал, потирая руки:
– А я к вам не надолго, друзья мои. Завтра уезжаю в Петербург. Мне обещают перевод в другой город.
Остановился он в «Дрездене».
X
У Лаптевых часто бывал Ярцев, Иван Гаврилыч. Это был здоровый, крепкий человек, черноволосый, с умным, приятным лицом; его считали красивым, но в последнее время он стал полнеть, и это портило его лицо и фигуру; портило его и то, что он стриг волосы низко, почти догола. В университете когда-то, благодаря его хорошему росту и силе, студенты называли его вышибалой.
Он вместе с братьями Лаптевыми кончил на филологическом факультете, потом поступил на естественный и теперь был магистром химии. На кафедру он не рассчитывал и нигде не был даже лаборантом, а преподавал физику и естественную историю в реальном училище и в двух женских гимназиях. От своих учеников, а особенно учениц он был в восторге и говорил, что подрастает теперь замечательное поколение. Кроме химии, он занимался еще у себя дома социологией и русскою историей и свои небольшие заметки иногда печатал в газетах и журналах, подписываясь буквой Я. Когда он говорил о чем-нибудь из ботаники или зоологии, то походил на историка, когда же решал какой-нибудь исторический вопрос, то походил на естественника.
Своим человеком у Лаптевых был также Киш, прозванный вечным студентом. Он три года был на медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь на каждом курсе по два года. Отец его, провинциальный аптекарь, присылал ему по сорока рублей в месяц, и еще мать, тайно от отца, по десяти, и этих денег ему хватало на прожитие и даже на такую роскошь, как шинель с польским бобром, перчатки, духи и фотография (он часто снимался и раздавал свои портреты знакомым). Чистенький, немножко плешивый, с золотистыми бачками около ушей, скромный, он всегда имел вид человека, готового услужить. Он всё хлопотал по чужим делам: то носился с подписным листом, то с раннего утра мерз около театральной кассы, чтобы купить для знакомой дамы билет, то по чьему-нибудь поручению шел заказывать венок или букет. Про него только и говорили: Киш сходит, Киш сделает, Киш купит. Поручения исполнял он большею частью дурно. На него сыпались попреки, часто забывали заплатить ему за покупки, но он всегда молчал и в затруднительных случаях только вздыхал. Он никогда особенно не радовался, не огорчался, рассказывал всегда длинно и скучно, и остроты его всякий раз вызывали смех потому только, что не были смешны. Так, однажды, с намерением пошутить, он сказал Петру: «Петр, ты не осетр», и это вызвало общий смех, и сам он долго смеялся, довольный, что так удачно сострил. Когда хоронили какого-нибудь профессора, то он шел впереди вместе с факельщиками.
Ярцев и Киш обыкновенно приходили вечером к чаю. Если хозяева не уезжали в театр или на концерт, то вечерний чай затягивался до ужина. В один из февральских вечеров в столовой происходил такой разговор:
– Художественное произведение тогда лишь значительно и полезно, когда оно в своей идее содержит какую-нибудь серьезную общественную задачу, – говорил Костя, сердито глядя на Ярцева. – Если в произведении протест против крепостного права или автор вооружается против высшего света с его пошлостями, то такое произведение значительно и полезно. Те же романы и повести, где ах да ох, да она его полюбила, а он ее разлюбил, – такие произведения, говорю я, ничтожны и черт их побери.
– Я с вами согласна, Константин Иваныч, – сказала Юлия Сергеевна. – Один описывает любовное свидание, другой – измену, третий – встречу после разлуки. Неужели нет других сюжетов? Ведь очень много людей, больных, несчастных, замученных нуждой, которым, должно быть, противно всё это читать.
Лаптеву было неприятно, что его жена, молодая женщина, которой нет еще и 22 лет, так серьезно и холодно рассуждает о любви. Он догадывался, почему это так.
– Если поэзия не решает вопросов, которые кажутся вам важными, – сказал Ярцев, – то обратитесь к сочинениям по технике, полицейскому и финансовому праву, читайте научные фельетоны. К чему это нужно, чтобы в «Ромео и Жульете», вместо любви, шла речь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, если об этом вы найдете в специальных статьях и руководствах?
– Дядя, это крайности! – перебил Костя. – Мы говорим не о таких гигантах, как Шекспир или Гёте, мы говорим о сотне талантливых и посредственных писателей, которые принесли бы гораздо больше пользы, если бы оставили любовь и занялись проведением в массу знаний и гуманных идей.
Киш, картавя и немножко в нос, стал рассказывать содержание повести, которую он недавно прочел. Рассказывал он обстоятельно, не спеша; прошло три минуты, потом пять, десять, а он всё продолжал, и никто не мог понять, о чем это он рассказывает, и лицо его становилось всё более равнодушным и глаза потускнели.
– Киш, рассказывайте поскорее, – не выдержала Юлия Сергеевна, – а то ведь это мучительно!
– Перестаньте, Киш! – крикнул на него Костя.
Засмеялись все, и сам Киш.
Пришел Федор. С красными пятнами на лице, торопясь, он поздоровался и увел брата в кабинет. В последнее время он избегал многолюдных собраний и предпочитал общество одного человека.
– Пускай молодежь там хохочет, а мы с тобой тут поговорим по душам, – сказал он, садясь в глубокое кресло, подальше от лампы. – Давненько, братуха, не видались. Сколько времени ты в амбаре не был? Пожалуй, с неделю.
– Да. Нечего мне у вас там делать. Да и старик надоел, признаться.
– Конечно, без нас с тобой могут обойтись в амбаре, но надо же иметь какое-нибудь занятие. В поте лица будешь есть свой хлеб, как говорится. Бог труды любит.
Петр принес на подносе стакан чаю. Федор выпил без сахару и еще попросил. Он пил много чаю и в один вечер мог выпить стаканов десять.
– Знаешь что, брат? – сказал он, вставая и подходя к брату. – Не мудрствуя лукаво, баллотируйся-ка ты в гласные, а мы помаленьку да полегоньку проведем тебя в члены управы, а потом в товарищи головы. Дальше-больше, человек ты умный, образованный, тебя заметят и пригласят в Петербург – земские и городские деятели теперь там в моде, брат, и, гляди, пятидесяти лет тебе еще не будет, а ты уж тайный советник и лента через плечо.
Лаптев ничего не ответил; он понял, что всего этого – и тайного советника, и ленты – хочется самому Федору, и он не знал, что ответить.
Братья сидели и молчали. Федор открыл свои часы и долго, очень долго глядел в них с напряженным вниманием, как будто хотел подметить движение стрелки, и выражение его лица казалось Лаптеву странным.
Позвали ужинать. Лаптев пошел в столовую, а Федор остался в кабинете. Спора уже не было, а Ярцев говорил тоном профессора, читающего лекцию:
– Вследствие разности климатов, энергий, вкусов, возрастов, равенство среди людей физически невозможно. Но культурный человек может сделать это неравенство безвредным так же, как он уже сделал это с болотами и медведями. Достиг же один ученый того, что у него кошка, мышь, кобчик и воробей ели из одной тарелки, и воспитание, надо надеяться, будет делать то же самое с людьми. Жизнь идет всё вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах, и, очевидно, настанет время, когда, например, нынешнее положение фабричных рабочих будет представляться таким же абсурдом, как нам теперь крепостное право, когда меняли девок на собак.
– Это будет не скоро, очень не скоро, – сказал Костя и усмехнулся, – очень не скоро, когда Ротшильду покажутся абсурдом его подвалы с золотом, а до тех пор рабочий пусть гнет спину и пухнет с голоду. Ну, нет-с, дядя. Не ждать нужно, а бороться. Если кошка ест с мышью из одной тарелки, то вы думаете, она проникнута сознанием? Как бы не так. Ее заставили силой.
– Я и Федор богаты, наш отец капиталист, миллионер, с нами нужно бороться! – проговорил Лаптев и потер ладонью лоб. – Бороться со мной – как это не укладывается в моем сознании! Я богат, но что мне дали до сих пор деньги, что дала мне эта сила? Чем я счастливее вас? Детство было у меня каторжное, и деньги не спасали меня от розог. Когда Нина болела и умирала, ей не помогли мои деньги. Когда меня не любят, то я не могу заставить полюбить себя, хотя бы потратил сто миллионов.
– Зато вы можете много добра сделать, – сказал Киш.
Саша тоже заплакала. Костя ушел к себе наверх и сказал в телефон Юлии Сергеевне:
– Голубушка, девочки опять плачут. Нет никакой возможности.
Юлия Сергеевна прибежала из большого дома в одном платье и вязаном платке, прохваченная морозом, и начала утешать девочек.
– Верьте мне, верьте, – говорила она умоляющим голосом, прижимая к себе то одну, то другую, – ваш папа приедет сегодня, он прислал телеграмму. Жаль мамы, и мне жаль, сердце разрывается, но что же делать? Ведь не пойдешь против бога!
Когда они перестали плакать, она окутала их и повезла кататься. Сначала проехали по Малой Дмитровке, потом мимо Страстного на Тверскую; около Иверской остановились, поставили по свече и помолились, стоя на коленях. На обратном пути заехали к Филиппову и взяли постных баранок с маком.
Обедали Лаптевы в третьем часу. Кушанья подавал Петр. Этот Петр днем бегал то в почтамт, то в амбар, то в окружной суд для Кости, прислуживал; по вечерам он набивал папиросы, ночью бегал отворять дверь и в пятом часу утра уже топил печи, и никто не знал, когда он спит. Он очень любил откупоривать сельтерскую воду и делал это легко, бесшумно, не пролив ни одной капли.
– Дай бог! – сказал Костя, выпивая перед супом рюмку водки.
В первое время Костя не нравился Юлии Сергеевне; его бас, его словечки вроде выставил, заехал в харю, мразь, изобрази самоварчик, его привычка чокаться и причитывать за рюмкой казались ей тривиальными. Но, узнавши его покороче, она стала чувствовать себя в его присутствии очень легко. Он был с нею откровенен, любил по вечерам поговорить с нею вполголоса о чем-нибудь и даже давал ей читать романы своего сочинения, которые до сих пор составляли тайну даже для таких его друзей, как Лаптев и Ярцев. Она читала эти романы и, чтобы не огорчить его, хвалила, и он был рад, так как надеялся стать рано или поздно известным писателем. В своих романах он описывал только деревню и помещичьи усадьбы, хотя деревню видел очень редко, только когда бывал у знакомых на даче, а в помещичьей усадьбе был раз в жизни, когда ездил в Волоколамск по судебному делу. Любовного элемента он избегал, будто стыдился, природу описывал часто и при этом любил употреблять такие выражения, как прихотливые очертания гор, причудливые формы облаков или аккорд таинственных созвучий… Романов его нигде не печатали, и это объяснял он цензурными условиями.
Адвокатская деятельность нравилась ему, но всё же главным своим занятием считал он не адвокатуру, а эти романы. Ему казалось, что у него тонкая, артистическая организация, и его всегда тянуло к искусству. Сам он не пел и не играл ни на каком инструменте и совершенно был лишен музыкального слуха, но посещал все симфонические и филармонические собрания, устраивал концерты с благотворительною целью, знакомился с певцами…
Во время обеда разговаривали.
– Удивительное дело, – сказал Лаптев, – опять меня поставил в тупик мой Федор! Надо, говорит, узнать, когда исполнится столетие нашей фирмы, чтобы хлопотать о дворянстве, и говорит это самым серьезным образом. Что с ним поделалось? Откровенно говоря, я начинаю беспокоиться.
Говорили о Федоре, о том, что теперь мода напускать на себя что-нибудь. Например, Федор старается казаться простым купцом, хотя он уже не купец, и когда приходит к нему за жалованьем учитель из школы, где старик Лаптев попечителем, то он даже меняет голос и походку и держится с учителем, как начальник.
После обеда нечего было делать, пошли в кабинет. Говорили о декадентах, об «Орлеанской деве», и Костя прочел целый монолог; ему казалось, что он очень удачно подражает Ермоловой. Потом сели играть в винт. Девочки не уходили к себе во флигель, а бледные, печальные сидели, обе в одном кресле, и прислушивались к шуму на улице: не отец ли едет? По вечерам, в темноте и при свечах, они испытывали тоску. Разговор за винтом, шаги Петра, треск в камине раздражали их, и не хотелось смотреть на огонь; по вечерам и плакать уже не хотелось, но было жутко и давило под сердцем. И было непонятно, как это можно говорить о чем-нибудь и смеяться, когда умерла мама.
– Что вы сегодня видели в бинокль? – спросила Юлия Сергеевна у Кости.
– Сегодня ничего, а вчера сам старик француз ванну принимал.
В семь часов Юлия Сергеевна и Костя уехали в Малый театр. Лаптев остался с девочками.
– А пора бы уже вашему папе приехать, – говорил он, посматривая на часы. – Должно быть, поезд опоздал.
Девочки сидели в кресле, молча, прижавшись друг к другу, как зверки, которым холодно, а он всё ходил по комнатам и с нетерпением посматривал на часы. В доме было тихо. Но вот уже в конце девятого часа кто-то позвонил. Петр пошел отворять.
Услышав знакомый голос, девочки вскрикнули, зарыдали и бросились в переднюю. Панауров был в роскошной дохе, и борода и усы у него побелели от мороза.
– Сейчас, сейчас, – бормотал он, а Саша и Лида, рыдая и смеясь, целовали ему холодные руки, шапку, доху. Красивый, томный, избалованный любовью, он, не спеша, приласкал девочек, потом вошел в кабинет и сказал, потирая руки:
– А я к вам не надолго, друзья мои. Завтра уезжаю в Петербург. Мне обещают перевод в другой город.
Остановился он в «Дрездене».
X
У Лаптевых часто бывал Ярцев, Иван Гаврилыч. Это был здоровый, крепкий человек, черноволосый, с умным, приятным лицом; его считали красивым, но в последнее время он стал полнеть, и это портило его лицо и фигуру; портило его и то, что он стриг волосы низко, почти догола. В университете когда-то, благодаря его хорошему росту и силе, студенты называли его вышибалой.
Он вместе с братьями Лаптевыми кончил на филологическом факультете, потом поступил на естественный и теперь был магистром химии. На кафедру он не рассчитывал и нигде не был даже лаборантом, а преподавал физику и естественную историю в реальном училище и в двух женских гимназиях. От своих учеников, а особенно учениц он был в восторге и говорил, что подрастает теперь замечательное поколение. Кроме химии, он занимался еще у себя дома социологией и русскою историей и свои небольшие заметки иногда печатал в газетах и журналах, подписываясь буквой Я. Когда он говорил о чем-нибудь из ботаники или зоологии, то походил на историка, когда же решал какой-нибудь исторический вопрос, то походил на естественника.
Своим человеком у Лаптевых был также Киш, прозванный вечным студентом. Он три года был на медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь на каждом курсе по два года. Отец его, провинциальный аптекарь, присылал ему по сорока рублей в месяц, и еще мать, тайно от отца, по десяти, и этих денег ему хватало на прожитие и даже на такую роскошь, как шинель с польским бобром, перчатки, духи и фотография (он часто снимался и раздавал свои портреты знакомым). Чистенький, немножко плешивый, с золотистыми бачками около ушей, скромный, он всегда имел вид человека, готового услужить. Он всё хлопотал по чужим делам: то носился с подписным листом, то с раннего утра мерз около театральной кассы, чтобы купить для знакомой дамы билет, то по чьему-нибудь поручению шел заказывать венок или букет. Про него только и говорили: Киш сходит, Киш сделает, Киш купит. Поручения исполнял он большею частью дурно. На него сыпались попреки, часто забывали заплатить ему за покупки, но он всегда молчал и в затруднительных случаях только вздыхал. Он никогда особенно не радовался, не огорчался, рассказывал всегда длинно и скучно, и остроты его всякий раз вызывали смех потому только, что не были смешны. Так, однажды, с намерением пошутить, он сказал Петру: «Петр, ты не осетр», и это вызвало общий смех, и сам он долго смеялся, довольный, что так удачно сострил. Когда хоронили какого-нибудь профессора, то он шел впереди вместе с факельщиками.
Ярцев и Киш обыкновенно приходили вечером к чаю. Если хозяева не уезжали в театр или на концерт, то вечерний чай затягивался до ужина. В один из февральских вечеров в столовой происходил такой разговор:
– Художественное произведение тогда лишь значительно и полезно, когда оно в своей идее содержит какую-нибудь серьезную общественную задачу, – говорил Костя, сердито глядя на Ярцева. – Если в произведении протест против крепостного права или автор вооружается против высшего света с его пошлостями, то такое произведение значительно и полезно. Те же романы и повести, где ах да ох, да она его полюбила, а он ее разлюбил, – такие произведения, говорю я, ничтожны и черт их побери.
– Я с вами согласна, Константин Иваныч, – сказала Юлия Сергеевна. – Один описывает любовное свидание, другой – измену, третий – встречу после разлуки. Неужели нет других сюжетов? Ведь очень много людей, больных, несчастных, замученных нуждой, которым, должно быть, противно всё это читать.
Лаптеву было неприятно, что его жена, молодая женщина, которой нет еще и 22 лет, так серьезно и холодно рассуждает о любви. Он догадывался, почему это так.
– Если поэзия не решает вопросов, которые кажутся вам важными, – сказал Ярцев, – то обратитесь к сочинениям по технике, полицейскому и финансовому праву, читайте научные фельетоны. К чему это нужно, чтобы в «Ромео и Жульете», вместо любви, шла речь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, если об этом вы найдете в специальных статьях и руководствах?
– Дядя, это крайности! – перебил Костя. – Мы говорим не о таких гигантах, как Шекспир или Гёте, мы говорим о сотне талантливых и посредственных писателей, которые принесли бы гораздо больше пользы, если бы оставили любовь и занялись проведением в массу знаний и гуманных идей.
Киш, картавя и немножко в нос, стал рассказывать содержание повести, которую он недавно прочел. Рассказывал он обстоятельно, не спеша; прошло три минуты, потом пять, десять, а он всё продолжал, и никто не мог понять, о чем это он рассказывает, и лицо его становилось всё более равнодушным и глаза потускнели.
– Киш, рассказывайте поскорее, – не выдержала Юлия Сергеевна, – а то ведь это мучительно!
– Перестаньте, Киш! – крикнул на него Костя.
Засмеялись все, и сам Киш.
Пришел Федор. С красными пятнами на лице, торопясь, он поздоровался и увел брата в кабинет. В последнее время он избегал многолюдных собраний и предпочитал общество одного человека.
– Пускай молодежь там хохочет, а мы с тобой тут поговорим по душам, – сказал он, садясь в глубокое кресло, подальше от лампы. – Давненько, братуха, не видались. Сколько времени ты в амбаре не был? Пожалуй, с неделю.
– Да. Нечего мне у вас там делать. Да и старик надоел, признаться.
– Конечно, без нас с тобой могут обойтись в амбаре, но надо же иметь какое-нибудь занятие. В поте лица будешь есть свой хлеб, как говорится. Бог труды любит.
Петр принес на подносе стакан чаю. Федор выпил без сахару и еще попросил. Он пил много чаю и в один вечер мог выпить стаканов десять.
– Знаешь что, брат? – сказал он, вставая и подходя к брату. – Не мудрствуя лукаво, баллотируйся-ка ты в гласные, а мы помаленьку да полегоньку проведем тебя в члены управы, а потом в товарищи головы. Дальше-больше, человек ты умный, образованный, тебя заметят и пригласят в Петербург – земские и городские деятели теперь там в моде, брат, и, гляди, пятидесяти лет тебе еще не будет, а ты уж тайный советник и лента через плечо.
Лаптев ничего не ответил; он понял, что всего этого – и тайного советника, и ленты – хочется самому Федору, и он не знал, что ответить.
Братья сидели и молчали. Федор открыл свои часы и долго, очень долго глядел в них с напряженным вниманием, как будто хотел подметить движение стрелки, и выражение его лица казалось Лаптеву странным.
Позвали ужинать. Лаптев пошел в столовую, а Федор остался в кабинете. Спора уже не было, а Ярцев говорил тоном профессора, читающего лекцию:
– Вследствие разности климатов, энергий, вкусов, возрастов, равенство среди людей физически невозможно. Но культурный человек может сделать это неравенство безвредным так же, как он уже сделал это с болотами и медведями. Достиг же один ученый того, что у него кошка, мышь, кобчик и воробей ели из одной тарелки, и воспитание, надо надеяться, будет делать то же самое с людьми. Жизнь идет всё вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах, и, очевидно, настанет время, когда, например, нынешнее положение фабричных рабочих будет представляться таким же абсурдом, как нам теперь крепостное право, когда меняли девок на собак.
– Это будет не скоро, очень не скоро, – сказал Костя и усмехнулся, – очень не скоро, когда Ротшильду покажутся абсурдом его подвалы с золотом, а до тех пор рабочий пусть гнет спину и пухнет с голоду. Ну, нет-с, дядя. Не ждать нужно, а бороться. Если кошка ест с мышью из одной тарелки, то вы думаете, она проникнута сознанием? Как бы не так. Ее заставили силой.
– Я и Федор богаты, наш отец капиталист, миллионер, с нами нужно бороться! – проговорил Лаптев и потер ладонью лоб. – Бороться со мной – как это не укладывается в моем сознании! Я богат, но что мне дали до сих пор деньги, что дала мне эта сила? Чем я счастливее вас? Детство было у меня каторжное, и деньги не спасали меня от розог. Когда Нина болела и умирала, ей не помогли мои деньги. Когда меня не любят, то я не могу заставить полюбить себя, хотя бы потратил сто миллионов.
– Зато вы можете много добра сделать, – сказал Киш.