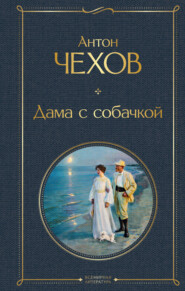По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы. Повести. 1888-1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я устал, ужасно устал, и что-то шептало мне на ухо: «Очень приятно. Но все же вы гадина». Почему-то я вспомнил строку из одного старинного стихотворения, которое когда-то знал в детстве: «Как приятно добрым быть!»
Жена лежала на кушетке в прежней позе – лицом вниз и обхватив голову обеими руками. Она плакала. Возле нее стояла горничная с испуганным, недоумевающим лицом. Я отослал горничную, сложил бумаги на стол, подумал и сказал:
– Вот ваша канцелярия, Natalie. Всё в порядке, всё прекрасно, и я очень доволен. Завтра я уезжаю.
Она продолжала плакать. Я вышел в гостиную и сел там в потемках. Всхлипывания жены, ее вздохи обвиняли меня в чем-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминал всю нашу ссору, начиная с того, как мне пришла в голову несчастная мысль пригласить жену на совещание, и кончая тетрадками и этим плачем. Это был обычный припадок нашей супружеской ненависти, безобразный и бессмысленный, каких было много после нашей свадьбы, но при чем же тут голодающие? Как это могло случиться, что они попали нам под горячую руку? Похоже на то, как будто мы, гоняясь друг за другом, нечаянно вбежали в алтарь и подняли там драку.
– Natalie, – говорю я тихо из гостиной, – полно, полно!
Чтобы прекратить плач и положить конец этому мучительному состоянию, надо пойти к жене и утешить, приласкать или извиниться; но как это сделать, чтобы она мне поверила? Как я могу убедить дикого утенка, живущего в неволе и ненавидящего меня, что он мне симпатичен и что я сочувствую его страданию? Жены своей я никогда не знал и потому никогда не знал, о чем и как с нею говорить. Наружность ее я знал хорошо и ценил по достоинству, но ее душевный, нравственный мир, ум, миросозерцание, частые перемены в настроении, ее ненавидящие глаза, высокомерие, начитанность, которою она иногда поражала меня, или, например, монашеское выражение, как вчера, – всё это было мне неизвестно и непонятно. Когда в своих столкновениях с нею я пытался определить, что она за человек, то моя психология не шла дальше таких определений, как взбалмошная, несерьезная, несчастный характер, бабья логика – и для меня, казалось, этого было совершенно достаточно. Но теперь, пока она плакала, у меня было страстное желание знать больше.
Плач прекратился. Я пошел к жене. Она сидела на кушетке, подперев голову обеими руками, и задумчиво, неподвижно глядела на огонь.
– Я уезжаю завтра утром, – сказал я.
Она молчала. Я прошелся по комнате, вздохнул и сказал:
– Natalie, когда вы просили меня уехать, то сказали: прощу вам всё, всё… Значит, вы считаете меня виноватым перед вами. Прошу вас, хладнокровно и в коротких выражениях формулируйте мою вину перед вами.
– Я утомлена. После как-нибудь… – сказала жена.
– Какая вина? – продолжал я. – Что я сделал? Скажете, вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше вас и ненавидим вами, но разве это вина? Я женился на вас не насильно. Ну, что ж, если хотите жить на свободе, идите, я дам вам волю. Идите, можете любить, кого вам угодно… Я и развод дам.
– Этого мне не надо, – сказала она. – Вы знаете, я вас любила прежде и всегда считала себя старше вас. Пустяки все это… Вина ваша не в том, что вы старше, а я моложе, или что на свободе я могла бы полюбить другого, а в том, что вы тяжелый человек, эгоист, ненавистник.
– Не знаю, может быть, – проговорил я.
– Уходите, пожалуйста. Вы хотите есть меня до утра, но предупреждаю, я совсем ослабела и отвечать вам не могу. Вы дали мне слово уехать, я очень вам благодарна, и больше ничего мне не нужно.
Жена хотела, чтобы я ушел, но мне не легко было сделать это. Я ослабел и боялся своих больших, неуютных, опостылевших комнат. Бывало в детстве, когда у меня болело что-нибудь, я жался к матери или няне, и, когда я прятал лицо в складках теплого платья, мне казалось, что я прячусь от боли. Так и теперь почему-то мне казалось, что от своего беспокойства я могу спрятаться только в этой маленькой комнате, около жены. Я сел и рукою заслонил глаза от света. Было тихо.
– Какая вина? – сказала жена после долгого молчания, глядя на меня красными, блестящими от слез глазами. – Вы прекрасно образованны и воспитаны, очень честны, справедливы, с правилами, но всё это выходит у вас так, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнет, что-то в высшей степени оскорбительное, унизительное. У вас честный образ мыслей, и потому вы ненавидите весь мир. Вы ненавидите верующих, так как вера есть выражение неразвития и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов; вы ненавидите стариков за отсталость и консерватизм, а молодых – за вольнодумство. Вам дороги интересы народа и России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы всех ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почве законности, и потому вы постоянно судитесь с мужиками и соседями. У вас украли 20 кулей ржи, и из любви к порядку вы пожаловались на мужиков губернатору и всему начальству, а на здешнее начальство пожаловались в Петербург. Почва законности! – сказала жена и засмеялась. – На основании закона и в интересах нравственности вы не даете мне паспорта. Есть такая нравственность и такой закон, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь в праздности, в тоске, в постоянном страхе и получала бы за это стол и квартиру от человека, которого она не любит. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете брак и семейные основы, а из всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сделали ни одного доброго дела, все вас ненавидят, со всеми вы в ссоре и за эти семь лет, пока женаты, вы и семи месяцев не прожили с женой. У вас жены не было, а у меня не было мужа. С таким человеком, как вы, жить невозможно, нет сил. В первые годы мне с вами было страшно, а теперь мне стыдно… Так и пропали лучшие годы. Пока воевала с вами, я испортила себе характер, стала резкой, грубой, пугливой, недоверчивой… Э, да что говорить! Разве вы захотите понять? Идите себе с богом.
Жена прилегла на кушетку и задумалась.
– А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнь! – тихо сказала она, глядя в раздумье на огонь. – Какая жизнь! Не вернешь теперь.
Кто живал зимою в деревне и знает эти длинные, скучные, тихие вечера, когда даже собаки не лают от скуки и, кажется, часы томятся оттого, что им надоело тикать, и кого в такие вечера тревожила пробудившаяся совесть и кто беспокойно метался с места на место, желая то заглушить, то разгадать свою совесть, тот поймет, какое развлечение и наслаждение доставлял мне женский голос, раздававшийся в маленькой уютной комнате и говоривший мне, что я дурной человек. Я не понимал, чего хочет моя совесть, и жена, как переводчик, по-женски, но ясно истолковывала мне смысл моей тревоги. Как часто раньше, в минуты сильного беспокойства, я догадывался, что весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно.
Жена через силу поднялась и подошла ко мне.
– Павел Андреич, – сказала она, печально улыбаясь. – Простите, я не верю вам: вы не уедете. Но я еще раз прошу. Называйте это, – она указала на свои бумаги, – самообманом, бабьей логикой, ошибкой, как хотите, но не мешайте мне. Это всё, что осталось у меня в жизни. – Она отвернулась и помолчала. – Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала с вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива… Мне кажется, в этом я нашла способ, как оправдать свою жизнь.
– Natalie, вы хорошая, идейная женщина, – сказал я, восторженно глядя на жену, – и всё, что вы делаете и говорите, прекрасно и умно.
Чтобы скрыть свое волнение, я прошелся по комнате.
– Natalie, – продолжал я через минуту, – перед отъездом прошу у вас, как особенной милости, помогите мне сделать что-нибудь для голодающих!
– Что же я могу? – сказала жена и пожала плечами. – Разве вот только подписной лист?
Она порылась в своих бумагах и нашла подписной лист.
– Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами, – сказала она, и по ее тону заметно было, что своему подписному листу она не придавала серьезного значения. – А участвовать в этом деле как-нибудь иначе вы не можете.
Я взял лист и подписал: Неизвестный – 5000.
В этом «неизвестный» было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое, но я понял это только, когда заметил, что жена сильно покраснела и торопливо сунула лист в кучу бумаг. Нам обоим стало стыдно. Я почувствовал, что мне непременно, во что бы то ни стало, сейчас же нужно загладить эту неловкость, иначе мне будет стыдно потом и в вагоне и в Петербурге. Но как загладить? Что сказать?
– Я благословляю вашу деятельность, Natalie, – сказал я искренно, – и желаю вам всякого успеха. Но позвольте на прощанье дать вам один совет. Natalie, держите себя поосторожнее с Соболем и вообще с вашими помощниками и не доверяйтесь им. Я не скажу, чтобы они были не честны, но это не дворяне, это люди без идеи, без идеалов и веры, без цели в жизни, без определенных принципов, и весь смысл их жизни зиждется на рубле. Рубль, рубль и рубль! – вздохнул я. – Они любят легкие и даровые хлеба и в этом отношении, чем они образованнее, тем опаснее для дела.
Жена пошла к кушетке и прилегла.
– Идеи, идейно, – проговорила она вяло и нехотя, – идейность, идеалы, цель жизни, принципы… Эти слова вы говорили всегда, когда хотели кого-нибудь унизить, обидеть или сказать неприятность. Ведь вот вы какой! Если с вашими взглядами и с таким отношением к людям подпустить вас близко к делу, то это, значит, разрушить дело в первый же день. Пора бы это понять.
Она вздохнула и помолчала.
– Это грубость нравов, Павел Андреич, – сказала она. – Вы образованны и воспитаны, но в сущности какой вы еще… скиф! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни с кем не видаетесь и не читаете ничего, кроме ваших инженерных книг. А ведь есть хорошие люди, хорошие книги! Да… Но я утомилась и мне тяжело говорить. Спать надо.
– Так я еду, Natalie, – сказал я.
– Да, да… Merci…
Я постоял немного и пошел к себе наверх. Час спустя – это было в половине второго – я со свечкою в руках опять сошел вниз, чтобы поговорить с женой. Я не знал, что скажу ей, но чувствовал, что мне нужно сказать ей что-то важное и необходимое. В рабочей комнате ее не было. Дверь, которая вела в спальню, была закрыта.
– Natalie, вы спите? – тихо спросил я.
Ответа не было. Я постоял около двери, вздохнул и пошел в гостиную. Здесь я сел на диван, потушил свечу и просидел в потемках до самого рассвета.
VI
Выехал я на станцию в 10 часов утра. Мороза не было, но валил с неба крупный мокрый снег и дул неприятный сырой ветер.
Миновали пруд, потом березняк и стали взбираться на гору по дороге, которая видна из моих окон. Я оглянулся, чтобы в последний раз взглянуть на свой дом, но за снегом ничего не было видно. Немного погодя впереди, как в тумане, показались темные избы. Это Пестрово.
«Если я когда-нибудь сойду с ума, то виновато будет Пестрово, – подумал я. – Оно меня преследует».
Въехали на улицу. На избах все крыши целы, нет ни одной содранной, – значит, соврал мой приказчик. Мальчик возит в салазках девочку с ребенком, другой мальчик, лет трех, с окутанной по-бабьи головой и с громадными рукавицами, хочет поймать языком летающие снежинки и смеется. Вот навстречу едет воз с хворостом, около идет мужик, и никак не поймешь, сед ли он или же борода его бела от снега. Он узнал моего кучера, улыбается ему и что-то говорит, а передо мной машинально снимает шапку. Собаки выбегают из дворов и с любопытством смотрят на моих лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы, нет хлеба, в избах «кто хохочет, кто на стену лезет», но всё это так просто, что даже не верится, чтобы это было на самом деле. Ни растерянных лиц, ни голосов вопиющих о помощи, ни плача, ни брани, а кругом тишина, порядок жизни, дети, салазки, собаки с задранными хвостами.
Не беспокоятся ни дети, ни встречный мужик, но почему же я так беспокоюсь?
Глядя на улыбающегося мужика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понимал теперь, что нет такого бедствия, которое могло бы победить этих людей; мне казалось, что в воздухе уже пахнет победой, я гордился и готов был крикнуть им, что я тоже с ними; но лошади вынесли из деревни в поле, закружил снег, заревел ветер, и я остался один со своими мыслями. Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело, сама жизнь выбрасывала меня, как ненужного, неумелого, дурного человека. Я помеха, частица народного бедствия, меня победили, выбросили, и я спешу на станцию, чтобы уехать и спрятаться в Петербурге, в отеле на Большой Морской.
Через час приехали на станцию. Сторож с бляхой и кучер внесли мои чемоданы в дамскую комнату. Кучер Никанор с заткнутою за пояс полой, в валенках, весь мокрый от снега и довольный, что я уезжаю, улыбнулся мне дружелюбно и сказал:
– Счастливой дороги, ваше превосходительство. Дай бог час.
Кстати: меня все называют превосходительством, хотя я лишь коллежский советник, камер-юнкер. Сторож сказал, что поезд еще не выходил из соседней станции. Надо было ждать. Я вышел наружу и, с тяжелой от бессонной ночи головой и едва передвигая ноги от утомления, направился без всякой цели к водокачке. Кругом не было ни души.
Жена лежала на кушетке в прежней позе – лицом вниз и обхватив голову обеими руками. Она плакала. Возле нее стояла горничная с испуганным, недоумевающим лицом. Я отослал горничную, сложил бумаги на стол, подумал и сказал:
– Вот ваша канцелярия, Natalie. Всё в порядке, всё прекрасно, и я очень доволен. Завтра я уезжаю.
Она продолжала плакать. Я вышел в гостиную и сел там в потемках. Всхлипывания жены, ее вздохи обвиняли меня в чем-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминал всю нашу ссору, начиная с того, как мне пришла в голову несчастная мысль пригласить жену на совещание, и кончая тетрадками и этим плачем. Это был обычный припадок нашей супружеской ненависти, безобразный и бессмысленный, каких было много после нашей свадьбы, но при чем же тут голодающие? Как это могло случиться, что они попали нам под горячую руку? Похоже на то, как будто мы, гоняясь друг за другом, нечаянно вбежали в алтарь и подняли там драку.
– Natalie, – говорю я тихо из гостиной, – полно, полно!
Чтобы прекратить плач и положить конец этому мучительному состоянию, надо пойти к жене и утешить, приласкать или извиниться; но как это сделать, чтобы она мне поверила? Как я могу убедить дикого утенка, живущего в неволе и ненавидящего меня, что он мне симпатичен и что я сочувствую его страданию? Жены своей я никогда не знал и потому никогда не знал, о чем и как с нею говорить. Наружность ее я знал хорошо и ценил по достоинству, но ее душевный, нравственный мир, ум, миросозерцание, частые перемены в настроении, ее ненавидящие глаза, высокомерие, начитанность, которою она иногда поражала меня, или, например, монашеское выражение, как вчера, – всё это было мне неизвестно и непонятно. Когда в своих столкновениях с нею я пытался определить, что она за человек, то моя психология не шла дальше таких определений, как взбалмошная, несерьезная, несчастный характер, бабья логика – и для меня, казалось, этого было совершенно достаточно. Но теперь, пока она плакала, у меня было страстное желание знать больше.
Плач прекратился. Я пошел к жене. Она сидела на кушетке, подперев голову обеими руками, и задумчиво, неподвижно глядела на огонь.
– Я уезжаю завтра утром, – сказал я.
Она молчала. Я прошелся по комнате, вздохнул и сказал:
– Natalie, когда вы просили меня уехать, то сказали: прощу вам всё, всё… Значит, вы считаете меня виноватым перед вами. Прошу вас, хладнокровно и в коротких выражениях формулируйте мою вину перед вами.
– Я утомлена. После как-нибудь… – сказала жена.
– Какая вина? – продолжал я. – Что я сделал? Скажете, вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше вас и ненавидим вами, но разве это вина? Я женился на вас не насильно. Ну, что ж, если хотите жить на свободе, идите, я дам вам волю. Идите, можете любить, кого вам угодно… Я и развод дам.
– Этого мне не надо, – сказала она. – Вы знаете, я вас любила прежде и всегда считала себя старше вас. Пустяки все это… Вина ваша не в том, что вы старше, а я моложе, или что на свободе я могла бы полюбить другого, а в том, что вы тяжелый человек, эгоист, ненавистник.
– Не знаю, может быть, – проговорил я.
– Уходите, пожалуйста. Вы хотите есть меня до утра, но предупреждаю, я совсем ослабела и отвечать вам не могу. Вы дали мне слово уехать, я очень вам благодарна, и больше ничего мне не нужно.
Жена хотела, чтобы я ушел, но мне не легко было сделать это. Я ослабел и боялся своих больших, неуютных, опостылевших комнат. Бывало в детстве, когда у меня болело что-нибудь, я жался к матери или няне, и, когда я прятал лицо в складках теплого платья, мне казалось, что я прячусь от боли. Так и теперь почему-то мне казалось, что от своего беспокойства я могу спрятаться только в этой маленькой комнате, около жены. Я сел и рукою заслонил глаза от света. Было тихо.
– Какая вина? – сказала жена после долгого молчания, глядя на меня красными, блестящими от слез глазами. – Вы прекрасно образованны и воспитаны, очень честны, справедливы, с правилами, но всё это выходит у вас так, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнет, что-то в высшей степени оскорбительное, унизительное. У вас честный образ мыслей, и потому вы ненавидите весь мир. Вы ненавидите верующих, так как вера есть выражение неразвития и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов; вы ненавидите стариков за отсталость и консерватизм, а молодых – за вольнодумство. Вам дороги интересы народа и России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы всех ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почве законности, и потому вы постоянно судитесь с мужиками и соседями. У вас украли 20 кулей ржи, и из любви к порядку вы пожаловались на мужиков губернатору и всему начальству, а на здешнее начальство пожаловались в Петербург. Почва законности! – сказала жена и засмеялась. – На основании закона и в интересах нравственности вы не даете мне паспорта. Есть такая нравственность и такой закон, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь в праздности, в тоске, в постоянном страхе и получала бы за это стол и квартиру от человека, которого она не любит. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете брак и семейные основы, а из всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сделали ни одного доброго дела, все вас ненавидят, со всеми вы в ссоре и за эти семь лет, пока женаты, вы и семи месяцев не прожили с женой. У вас жены не было, а у меня не было мужа. С таким человеком, как вы, жить невозможно, нет сил. В первые годы мне с вами было страшно, а теперь мне стыдно… Так и пропали лучшие годы. Пока воевала с вами, я испортила себе характер, стала резкой, грубой, пугливой, недоверчивой… Э, да что говорить! Разве вы захотите понять? Идите себе с богом.
Жена прилегла на кушетку и задумалась.
– А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнь! – тихо сказала она, глядя в раздумье на огонь. – Какая жизнь! Не вернешь теперь.
Кто живал зимою в деревне и знает эти длинные, скучные, тихие вечера, когда даже собаки не лают от скуки и, кажется, часы томятся оттого, что им надоело тикать, и кого в такие вечера тревожила пробудившаяся совесть и кто беспокойно метался с места на место, желая то заглушить, то разгадать свою совесть, тот поймет, какое развлечение и наслаждение доставлял мне женский голос, раздававшийся в маленькой уютной комнате и говоривший мне, что я дурной человек. Я не понимал, чего хочет моя совесть, и жена, как переводчик, по-женски, но ясно истолковывала мне смысл моей тревоги. Как часто раньше, в минуты сильного беспокойства, я догадывался, что весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно.
Жена через силу поднялась и подошла ко мне.
– Павел Андреич, – сказала она, печально улыбаясь. – Простите, я не верю вам: вы не уедете. Но я еще раз прошу. Называйте это, – она указала на свои бумаги, – самообманом, бабьей логикой, ошибкой, как хотите, но не мешайте мне. Это всё, что осталось у меня в жизни. – Она отвернулась и помолчала. – Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала с вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива… Мне кажется, в этом я нашла способ, как оправдать свою жизнь.
– Natalie, вы хорошая, идейная женщина, – сказал я, восторженно глядя на жену, – и всё, что вы делаете и говорите, прекрасно и умно.
Чтобы скрыть свое волнение, я прошелся по комнате.
– Natalie, – продолжал я через минуту, – перед отъездом прошу у вас, как особенной милости, помогите мне сделать что-нибудь для голодающих!
– Что же я могу? – сказала жена и пожала плечами. – Разве вот только подписной лист?
Она порылась в своих бумагах и нашла подписной лист.
– Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами, – сказала она, и по ее тону заметно было, что своему подписному листу она не придавала серьезного значения. – А участвовать в этом деле как-нибудь иначе вы не можете.
Я взял лист и подписал: Неизвестный – 5000.
В этом «неизвестный» было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое, но я понял это только, когда заметил, что жена сильно покраснела и торопливо сунула лист в кучу бумаг. Нам обоим стало стыдно. Я почувствовал, что мне непременно, во что бы то ни стало, сейчас же нужно загладить эту неловкость, иначе мне будет стыдно потом и в вагоне и в Петербурге. Но как загладить? Что сказать?
– Я благословляю вашу деятельность, Natalie, – сказал я искренно, – и желаю вам всякого успеха. Но позвольте на прощанье дать вам один совет. Natalie, держите себя поосторожнее с Соболем и вообще с вашими помощниками и не доверяйтесь им. Я не скажу, чтобы они были не честны, но это не дворяне, это люди без идеи, без идеалов и веры, без цели в жизни, без определенных принципов, и весь смысл их жизни зиждется на рубле. Рубль, рубль и рубль! – вздохнул я. – Они любят легкие и даровые хлеба и в этом отношении, чем они образованнее, тем опаснее для дела.
Жена пошла к кушетке и прилегла.
– Идеи, идейно, – проговорила она вяло и нехотя, – идейность, идеалы, цель жизни, принципы… Эти слова вы говорили всегда, когда хотели кого-нибудь унизить, обидеть или сказать неприятность. Ведь вот вы какой! Если с вашими взглядами и с таким отношением к людям подпустить вас близко к делу, то это, значит, разрушить дело в первый же день. Пора бы это понять.
Она вздохнула и помолчала.
– Это грубость нравов, Павел Андреич, – сказала она. – Вы образованны и воспитаны, но в сущности какой вы еще… скиф! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни с кем не видаетесь и не читаете ничего, кроме ваших инженерных книг. А ведь есть хорошие люди, хорошие книги! Да… Но я утомилась и мне тяжело говорить. Спать надо.
– Так я еду, Natalie, – сказал я.
– Да, да… Merci…
Я постоял немного и пошел к себе наверх. Час спустя – это было в половине второго – я со свечкою в руках опять сошел вниз, чтобы поговорить с женой. Я не знал, что скажу ей, но чувствовал, что мне нужно сказать ей что-то важное и необходимое. В рабочей комнате ее не было. Дверь, которая вела в спальню, была закрыта.
– Natalie, вы спите? – тихо спросил я.
Ответа не было. Я постоял около двери, вздохнул и пошел в гостиную. Здесь я сел на диван, потушил свечу и просидел в потемках до самого рассвета.
VI
Выехал я на станцию в 10 часов утра. Мороза не было, но валил с неба крупный мокрый снег и дул неприятный сырой ветер.
Миновали пруд, потом березняк и стали взбираться на гору по дороге, которая видна из моих окон. Я оглянулся, чтобы в последний раз взглянуть на свой дом, но за снегом ничего не было видно. Немного погодя впереди, как в тумане, показались темные избы. Это Пестрово.
«Если я когда-нибудь сойду с ума, то виновато будет Пестрово, – подумал я. – Оно меня преследует».
Въехали на улицу. На избах все крыши целы, нет ни одной содранной, – значит, соврал мой приказчик. Мальчик возит в салазках девочку с ребенком, другой мальчик, лет трех, с окутанной по-бабьи головой и с громадными рукавицами, хочет поймать языком летающие снежинки и смеется. Вот навстречу едет воз с хворостом, около идет мужик, и никак не поймешь, сед ли он или же борода его бела от снега. Он узнал моего кучера, улыбается ему и что-то говорит, а передо мной машинально снимает шапку. Собаки выбегают из дворов и с любопытством смотрят на моих лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы, нет хлеба, в избах «кто хохочет, кто на стену лезет», но всё это так просто, что даже не верится, чтобы это было на самом деле. Ни растерянных лиц, ни голосов вопиющих о помощи, ни плача, ни брани, а кругом тишина, порядок жизни, дети, салазки, собаки с задранными хвостами.
Не беспокоятся ни дети, ни встречный мужик, но почему же я так беспокоюсь?
Глядя на улыбающегося мужика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понимал теперь, что нет такого бедствия, которое могло бы победить этих людей; мне казалось, что в воздухе уже пахнет победой, я гордился и готов был крикнуть им, что я тоже с ними; но лошади вынесли из деревни в поле, закружил снег, заревел ветер, и я остался один со своими мыслями. Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело, сама жизнь выбрасывала меня, как ненужного, неумелого, дурного человека. Я помеха, частица народного бедствия, меня победили, выбросили, и я спешу на станцию, чтобы уехать и спрятаться в Петербурге, в отеле на Большой Морской.
Через час приехали на станцию. Сторож с бляхой и кучер внесли мои чемоданы в дамскую комнату. Кучер Никанор с заткнутою за пояс полой, в валенках, весь мокрый от снега и довольный, что я уезжаю, улыбнулся мне дружелюбно и сказал:
– Счастливой дороги, ваше превосходительство. Дай бог час.
Кстати: меня все называют превосходительством, хотя я лишь коллежский советник, камер-юнкер. Сторож сказал, что поезд еще не выходил из соседней станции. Надо было ждать. Я вышел наружу и, с тяжелой от бессонной ночи головой и едва передвигая ноги от утомления, направился без всякой цели к водокачке. Кругом не было ни души.