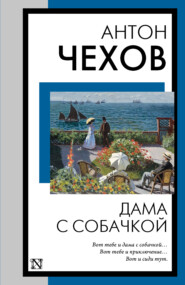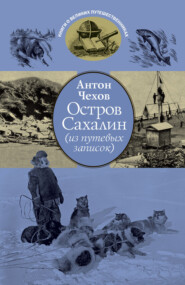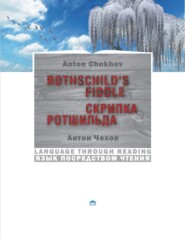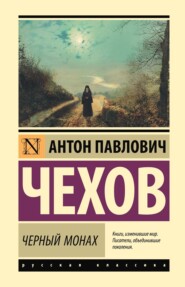По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сущая правда
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:
– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.
Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?
– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.
– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.
– Я… я не струсил, а мне… мне маму жалко.
– Ты говори: поедешь или нет?
– Я поеду, только… только погоди. Мне хочется дома пожить.
– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!
Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
– Так ты не поедешь? – еще раз спросил Чечевицын.
– По… поеду.
– Так одевайся!
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.
И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.
Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:
– Ах, мне так страшно!
До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!
На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.
Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.
– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.
– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.
И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.
– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?
– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.
Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.
Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:
«Монтигомо Ястребиный Коготь».
1887
Дом с мезонином
Рассказ художника
I
Это было шесть – семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.
Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.
Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.
А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая – ей было семнадцать – восемнадцать лет, не больше – тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.
Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.
– Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, – сказала она Белокурову, подавая ему руку. – Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.
Я поклонился.
Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала двадцать пять рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.
– Интересная семья, – сказал Белокуров. – Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.
Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.
– Нехорошо, Петр Петрович, – говорила она укоризненно. – Нехорошо. Стыдно.
– Правда, Лида, правда, – соглашалась мать. – Нехорошо.
– Весь наш уезд находится в руках Балагина, – продолжала Лида, обращаясь ко мне. – Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!
Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так мисс, свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя… Это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.
Мы играли в крокет и lawn-tennis[7 - Лаун-теннис (от англ. lawn «лужайка»)], гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко – быть может, оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.
Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.
– Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, – сказал Белокуров и вздохнул. – Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А всё дела, дела! Дела!
– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.
Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?
– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.
– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.
– Я… я не струсил, а мне… мне маму жалко.
– Ты говори: поедешь или нет?
– Я поеду, только… только погоди. Мне хочется дома пожить.
– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!
Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
– Так ты не поедешь? – еще раз спросил Чечевицын.
– По… поеду.
– Так одевайся!
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.
И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.
Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:
– Ах, мне так страшно!
До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!
На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.
Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.
– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.
– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.
И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.
– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?
– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.
Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.
Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:
«Монтигомо Ястребиный Коготь».
1887
Дом с мезонином
Рассказ художника
I
Это было шесть – семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.
Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.
Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.
А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая – ей было семнадцать – восемнадцать лет, не больше – тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.
Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.
– Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, – сказала она Белокурову, подавая ему руку. – Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.
Я поклонился.
Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала двадцать пять рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.
– Интересная семья, – сказал Белокуров. – Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.
Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.
– Нехорошо, Петр Петрович, – говорила она укоризненно. – Нехорошо. Стыдно.
– Правда, Лида, правда, – соглашалась мать. – Нехорошо.
– Весь наш уезд находится в руках Балагина, – продолжала Лида, обращаясь ко мне. – Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!
Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так мисс, свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя… Это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.
Мы играли в крокет и lawn-tennis[7 - Лаун-теннис (от англ. lawn «лужайка»)], гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко – быть может, оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.
Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.
– Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, – сказал Белокуров и вздохнул. – Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А всё дела, дела! Дела!