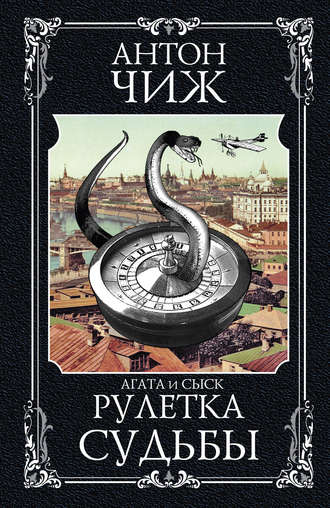
Рулетка судьбы
– Прошу следовать за мной, – строжайшим тоном потребовал он.
Агата постаралась быть глубоко изумленной.
– Следовать за вами? Но разве господин Пушкин не предупредил вас о моем визите?
Твердость городового дала трещину. Мадемуазель не походила на воровку и преступницу, а именем чиновника сыска абы кто щеголять не будет. Оборин уже собрался отступить, но тут вспомнил наказ самого Пушкина: брать любого, кто бы ни пришел. Невзирая на чины и лица. К тому же Пушкин все утро пробыл в доме и около, если бы хотел, так оставил бы указание. Нет, здесь что-то нечисто… И мадемуазель смотрит слишком ласково…
– Повторяю: прошу следовать в участок… Добром прошу, дама…
Обращение «дама» для Агаты было как вилкой по стеклу. До «дамы» у нее еще с десяток счастливых лет. Но какие это сейчас пустяки! Перед ней был худший тип мужчин (если не считать чиновника сыска): упрямый слу-жака…
– Господин городовой, – сказала она, как шелком погладила. – Известно ли вам, что у сыскной полиции есть секретные агенты, которые выполняют особые поручения?
– Прошу не рассуждать! Следуйте на выход. – Оборин был суров, чтобы не поддаться.
– Я тайный агент сыскной полиции… Господин Пушкин сообщил мне, что вы можете появиться. Просил проверить, насколько точно исполняете его поручение… Вы отменно несете службу, городовой, о чем я доложу вашему начальству. Благодарю вас… А теперь можете быть свободны…
И Агата сделала прощальный жест.
Если бы не этот взмах ручкой, Оборин, скорее всего, не устоял бы. Но эдакая вольность обращения разве допустима для агента сыскной полиции? Тем более тайного. Слушать пение русалки больше нельзя. Оборин расстегнул кобуру и вынул револьвер. Ствол пока еще смотрел вниз.
– Выйти из дома!
План с применением мягкой силы не удался. Агата оценила ситуацию. Выход на крыльцо перекрыт городовым, проскочить не получится. Бежать через кухню не удастся: там замок снаружи. Идти покорно в участок никак нельзя. Пушкин, чего доброго, оставит за решеткой до завтра. С него станется. Уже проделывал подобные фокусы. Нет, нельзя ей в участок. И ведь, как назло, волшебная бумага с гербом и печатью, которая наводила ужас на любого полицейского, осталась в номере «Лоскутной». А чутье помалкивало. Когда так нужна помощь…
– Господин городовой, ведите себя разумно… Свой долг вы исполнили. Не делайте глупости, которые обернутся против вас…
Ствол револьвера нацелился прямо ей в лицо. Смотреть в отверстие, из которого может вылететь пуля, было неприятно.
– Поднять руки! Живо!
Только этого не хватало. Нет, не понимает служивый доброго языка, не пробиться через шинель. Только один язык понимает. Агата пыталась вспомнить, какие команды принято отдавать военным.
– Смирись! – отчаянно вскрикнула она, от волнения перепутав со «смирно». – Руки на швах!
Городовой большим пальцем мерзко щелкнул какой-то штучкой в револьвере.
– Неповиновение полиции… Стреляю без предупреждения… Руки подняла! Пошла к двери! Выполнять!
Без подсказки чутья Агата поняла: такой безмозглый баран точно выстрелит. Она охнула, схватившись за левую грудь.
– Ох… сердце… больно… подождите секунду… сейчас…
Она согнулась, опираясь рукой на обеденный стол. Как раз под ней оказалась спинка старого московского стула. Агата совсем повалилась на стол, спиной к городовому, чтобы он не видел, где находятся ее руки. Она натурально охала и стонала…
Оборин так и стоял с револьвером на изготовку, не зная, что предпринять. Приближаться к даме не рискнул. Но и торчать на месте было нельзя. Он опустил руку и свел боек в штатное положение.
– Жива ли? – спросил он.
Этого Агата и ждала. Рывком выхватила стул и метнула в ближнее окно. Со всей силой, на какую была способна. Стекла полетели со звоном и треском. Сверкая солнцем, осколки падали в снег.
13Дом и проживавший в нем крупье находились под негласным надзором полиции. Подойдя, Пушкин попал под придирчивый взгляд сразу двух городовых. Так близко постовые обычно не размещаются. На другой стороне Поварского переулка господин неприметной наружности что-то отметил в филерском блокноте.
Поднимаясь на второй этаж, Пушкин вспоминал разговорный французский, в котором давно не имел практики. Французы в России так чувствительны, когда слышат несовершенство родной речи. Знать, позабыли, как разговаривала с ними березовая дубина в 1812 году…
Пушкин повертел лепесток замка. Открыл мужчина цветущих мужских лет. То есть за пятьдесят. Прическу держала сеточка для волос, а усы – бумажный футляр папиросной бумаги. В домашней обстановке крупье был в чистой сорочке с галстуком. Только поверх накинул домашний халат.
– Что вам угодно? – спросил он, осматривая незнакомого гостя.
Представляясь, язык Пушкина будто сам вспомнил французский. Месье Клавель не скрывал удивления.
– Полиция? Что-то случилось с рулеткой? Она сгорела? Вместе с банком? Погибли колесо и стол? О, не мучьте меня, месье Пушки́н, неизвестностью!
Потребовались некоторые усилия, чтобы убедить: рулетке ничто не угрожает, а визит связан с делом, которым занята полиция. Месье Клавель наконец пригласил войти.
Съемная квартира еще не успела впитать дух нового хозяина. От старых остались добротная мебель и прожженный ковер. Кто-то из прошлых жильцов отчаянно курил. Табаком пропахли даже обои.
Пушкину предложили кресло.
– Что привело вас ко мне, молодой человек? – спросил месье Клавель интонацией доброго папаши из квартала Сен-Жермен.
– В ночь на первое января за рулеткой играла некая дама. Она выиграла изрядную сумму. Что вы могли бы рассказать о ней?
Вопрос причинил французу страдания. Он закатил глаза и приложил руки к вискам.
– Это было ужасно, месье Пушки́н… Я никогда не испытывал подобного отчаяния и даже ужаса…
– При вас никогда не выигрывали крупных сумм?
Месье Клавель издал мудрый и печальный смешок.
– О нет, молодой человек, я многое повидал за игорным столом… Еще юношей я видел в казино Висбадена, как некий русский господин сначала проиграл все, а потом взял 30 000 франков. Это был ваш знаменитый писатель Достоевский… Конечно, ему далеко до славы Золя или Гюго, но все-таки в Европе имеет некоторую известность… Я видел, как одна русская барышня много лет назад в несколько ударов взяла 140 000 франков…
– Нельзя ли вернуться к московской даме, – невежливо перебил Пушкин.
Месье Клавель не обиделся.
– О да,la babushka, гранд-мадам… Запомнил ее на всю жизнь…
– Что-то поразило вас в ее игре?
– Ваш вопрос, месье, точен, как острие ножа… Я так давно стою за столом, что неплохо изучил игроков. Читаю их, как раскрытую книгу…
– Что прочли в сердце гранд-мадам? – немного подстегнул Пушкин.
– Хотите знать, кто она такая, к какому типу игроков принадлежит? Так я вам отвечу: она никогда не играла на рулетке…
– Как это понимать, месье Клавель?
– Она делала ставки так, как не позволит себе даже самый неопытный игрок. Гранд-мадам впервые играла за столом… Это была не игра, а безумие…
– Тем не менее она ушла с выигрышем…
Крупье воздел руки к небесам.
– Невероятно, но это так!
– Новичкам везет?
– Забудьте эти сказки! – месье Клавель позволил себе ироничную улыбку. – Их везение заканчивается после нескольких ударов. Или на следующий день. Но гранд-мадам не пришла ни на следующий день, ни вчера. А ведь русские барыни, как она, обязательно так поступают…
Пушкин не стал объяснять, почему гранд-мадам не пришла на следующий день.
Месье Клавель вдруг оживился.
– Как ее имя? Вы должны знать ее имя…
Фамилию «Терновская» он смог повторить по слогам с третьего раза. Для французского языка – дикая и непроизносимая. Как все русские фамилии…
– И все-таки как вы поняли, что она впервые играет? – спросил Пушкин.
– Гранд-мадам сделала ровно четыре удара. И каждую ставку делала так, будто знала, какая цифра должна выпасть.
– Играла по системе?
– Никакой системы! Начать со ставки на zero, выждать и поставить все на douzaine, затем еще выждать и поставить все на carré, а в завершение 60 000 поставить на черное. Кто может придумать такую систему?!
Пушкин согласился: с точки зрения теории вероятности, такой системы быть не может. Тем не менее Терновская сыграла.
– Около нее были друзья или родственник?
– О да! Приятные господа… Отговаривали не совершать безумства… Она никого не слушала. И выигрывала…
– Кто-то еще давал советы?
Месье Клавель поморщился.
– Какая-то малоприятная мадемуазель с чудовищной шляпкой на голове. Приходила вчера и проиграла…
– Кажется, в тот вечер были две милые барышни…
– Да, они внимательно следили за игрой гранд-мадам… В светлом и темном платьях… Такие очаровательные, будто вернулись из Парижа…
Пушкин встал и поклонился.
– Благодарю, месье Клавель, ваши сведения чрезвычайно полезны…
Крупье вновь впал в беспокойство.
– Но, месье Пушки́н! Что же гранд-мадам Тре-но-фф-ски? Она опять придет? Когда ожидать ее визит? Я совсем потерял сон!
– Можете спать спокойно, месье Клавель, – ответил Пушкин.
И больше крупье не удалось узнать ничего.
14Оборину казалось, что он попал в сон. Летящий стул, грохот, блестящий фонтан стекол, дама, прикрывая лицо рукавом и муфтой, выпрыгивает в зияющую дыру… Разве такое возможно…
Городовой очнулся, когда край подола исчез на улице. Он метнулся к окну, но, вступив на подоконник, понял, что в шинели с шашкой застрянет и провозится. А тут дорога каждая секунда. Девица уши заливала, а вон какой шустрой оказалась. Оборин побежал в прихожую, спрыгнул с крыльца, повалился на колени, подскочил и кинулся за ворота.
Задрав юбку, дама бежала к переулку так, что подметки сверкали. Стрелять он не мог: на таком расстоянии наверняка промахнется, а попадет – и того хуже. Не хватало, чтобы оказалась агентом и за ее смерть выгнали из городовых. Куда ему деваться, кроме службы ничего не умеет. Не выпуская бесполезный револьвер, Оборин засвистел в свисток, который всегда болтался на шее. И бросился в погоню.
До переулка оставалось совсем немного. Дорожка между домами и сугробами узкая, но чистая. Агата хватала ледяной воздух и бежала что есть мочи. Она уже видела угол палисадника, за которым открывалась короткая дорога к пролетке и спасению. Она почти ушла от преследователя. Но тут что-то случилось. Агата не поняла, что и откуда взялось на ровной дорожке, и на бегу полетела лицом в сугроб. Больно ударившись подбородком.
– Эвона как! – закричал Прокопий, махая спешившему городовому.
Черенок его лопаты зацепил сапожок, беглянка и попалась.
Агата еще пыталась подняться, но налетел Оборин и коленом вдавил в снег. Колено врезалось между лопаток, как кол. Было больно и обидно. Агата не могла ни охнуть, ни шевельнуться. Городовой стащил ремень, что держал шинель, завел ослабевшие руки и стянул таким узлом, что Агата застонала. Дернул ее в обхват из сугроба и поставил на ноги.
– Вам это даром не пройдет, – прошипела она, чтобы не заплакать.
– Ишь, змея, огрызается! – Дворник погрозил лопатой.
Угроз Оборин не боялся. Развернув смутьянку, подтолк-нул револьвером в спину.
– Пошла вперед… И без фокусов, не то пристрелю… Спасибо, Прокопий, подсобил, с меня причитается… Там окно у Терновской выбито, так досками забей… Мало ли чего…
Дворник обещал расстараться. Доски с гвоздями у него имелись.
Такого позора Агата еще не переживала. Со связанными руками, как арестантку, ее вели под дулом пистолета до самого Арбатского дома. Мимо домов, мимо окон, из которых смотрели жильцы. Прохожие оглядывались, показывали пальцем, смеялись. Обыватель любит, когда ловят жуликов и воров. Но особенно когда кому-то хуже, чем ему.
Придержав дверь участка, Оборин втолкнул ее внутрь. Агата чуть не упала, зацепившись за порожек. Видно, суждено ей испить страдания до конца. Ну ничего, за все будет расчет…
Пристав, только выпроводив гостя из сыска, взглянул на задержанную без жалости.
– Это что за кукла? – спросил он.
Городовой доложил, что поймал ее прямо в гостиной Терновской. Мало того что вскрыла замок самовольно, так еще в доме шарила, стулом в окно метнула, сбежать пыталась. Да только от полиции не уйдешь…
Уже с интересом разглядывая мадемуазель, Нефедьев отметил про себя, что выглядит она вовсе не как преступница. Ничего общего сосвоими[33]. Выглядит как состоятельная, приличная дама. Ее бы в ресторан свозить. Или на прочие развлечения.
– Кто вы такая? – спросил он, подходя ближе.
– Баронесса фон Шталь, – ответила Агата сквозь зубы. Злость высушила слезы.
Нефедьев обернулся к городовому, ожидая разъяснений: не каждый день баронесс приводят в участок со связанными руками.
– Исполнял поручение господина Пушкина, – со всей строгостью ответил тот. – Велено брать всех. Невзирая…
Об этом поручении пристав знал. Но все-таки – не вязать же даму таким бесчеловечным образом.
– Что вы делали в доме Терновской?
– Выполняла секретное поручение господина Пушкина… Будьте любезны развязать руки. Мне больно… Очень…
По мановению руки пристава городовой распутал ремень. Была бы его воля – такую заразу, что заставила бегать, не в ремнях, а в цепях и колодках держал бы. Ишь так глазищами и сверкает.
От ремней остались красные отметины. Агата растирала запястья, но следы не проходили. Не полицейские, а какие-то звери…
– Прошу отвести меня в сыскную полицию, – сказал она, постанывая.
Меньше всего приставу хотелось разбираться, кто она такая и какое поручение выполняла. Пусть об этом голова болит у господина Пушкина. Раз он эту кашу заварил. Но и так отпускать было нельзя. Нефедьев распорядился, чтобы Оборин продиктовал Трашантому рапорт об обстоятельствах задержания. После чего вернулся на пост. А баронессу, или кто она там на самом деле, в Малый Гнездниковский доставит его помощник. Для чего Трашантому было разрешено взять пролетку. Все-таки даму везти, а не каторжника…
15Контора нотариуса Эггерса не отличалась от других. Солидная мебель, дорогой ковер, темно-зеленые обои, разлапистая пальма в кадке. Никакой вольности или рождественской елки. Даже бронзовый чернильный прибор на столе посматривал с высокомерием на дам и господ, робко заходивших в кабинет. Сам нотариус, невысокий сухощавый господин, с большой залысиной и маленькими бачками, вышедшими из моды, был затянут в черный сюртук до последней возможности. Фигура его казалась воплощением законности, честности и порядка – в общем, всего того, чем должен быть переполнен нотариус. Как поросенок гречневой кашей.
Пушкин ждал на другой стороне Никольской, пока все известные ему лица не проследовали в контору. Лишь его появление стало неожиданным. Он вошел последним. Эггерс встретил его в приемной, спросив, чем может служить. Пушкин представился. Нотариус удивился появлению сыскной полиции: лица, которым полагалось выслушать завещание, внесены в список. Присутствие посторонних нежелательно. Пушкин пояснил, что занимается расследованием смерти мадам Терновской. И если господин Эггерс желает, может потребовать отложить оглашение завещания до конца розыска. Что лишило бы нотариуса комиссионных. Аргумент был слишком доходчивым. Господину Пушкину милостиво разрешили войти в кабинет.
И он вошел.
Участники волнующего спектакля сидели как можно дальше друг от друга. Что в небольшом помещении было не так просто. У правой стены оказались мужчины. Фудель ерзал на стуле, Лабушев, опираясь на тросточку, был образцом аристократического спокойствия. Легкий испуг в его взгляде был почти незаметен. На другой стороне расположились женщины. Мадам Живокини сидела ближе всего к столу нотариуса, будто от этого зависела ее доля. Плечи ее укрывал белый платок с яркими бутонами. Рядом с ней – Рузо в шапочке-пирожке. Секретарь Терновской сосредоточенно разглядывала пол. Губы ее шевелились. С самого края женского ряда сидела мадам Львова. Тетушка держалась так независимо, что и головы не повернула к племяннику. Впрочем, появление Пушкина никого не обрадовало. Поздоровался только он. Был свободный стул, но Пушкин предпочел встать в углу, откуда было видно все.
Несмотря на характер Терновской, каждый из пришедших хранил надежду на чудо. То есть на долю в наследстве. Вдруг покойная расщедрилась и что-нибудь отписала. Не права оказалась тетушка: никто не поверил, что наследство уйдет в сиротский приют целиком. Даже она не поверила. Что уж про других говорить…
Эггерс пробрался к столу, поклонился сдержанно.
– Дамы и господа, – начала он траурным тоном. – Мы собрались здесь, чтобы в назначенный срок узнать последнюю волю покойной Анны Васильевны Терновской и исполнить ее в строгом соответствии с порядком, законом и приличиями. Мы скорбим о постигшей нас утрате и теперь в память об Анне Васильевне должны вскрыть завещание. Напомню, что завещание для каждого из нас и вообще в традициях нашего народа является священным. Также обязан сообщить вам, что завещание составлено лично Анной Васильевной. Гербовый сбор оплачен госпожой Терновской полностью, завещание заверено мной собственноручно и скреплено печатью в моем присутствии и в присутствии моих секретарей и делопроизводителя, то есть не менее трех свидетелей… В строгом соблюдении закона. Таким образом, духовная[34] имеет полную законную силу и вступит в действие сразу после оглашения…
Торжественная и печальная речь произвела нужный эффект: зрители пребывали в нетерпении. Фудель грыз ногти, Лабушев сменил ногу, перекинув левую на правую, Живокини обмахивалась платочком. Только Рузо и мадам Львова ничем не показывали волнения.
Нотариус остался доволен. Актерские приемы были ему не чужды.
Пушкин посматривал на лица.
– Прежде чем мы услышим последнюю волю Анны Васильевны, я обязан проверить список лиц, которые будут упомянуты в последней воле покойной… Сей список составлен лично госпожой Терновской и приложен к завещанию в отдельном конверте. – Эггерс раскрыл массивную папку с потертым золотым тиснением и достал из нее простой конверт, как фокусник демонстрирует пустую шляпу, из которой вытащит кролика.
Медленно шурша бумагой, нотариус вскрыл конверт и вынул сложенный листок.
– «Список лиц, кому сообщить мою волю», – прочитал он. Очками Эггерс не пользовался.
Как хороший актер, умеющий накачивать напряжение у публики, нотариус взял паузу и прокашлялся…
– «Сестра моя Живокини Вера Васильевна…» – прочел Эггерс и оборотился к ближней даме.
Она махнула ему платочком.
– Далее: госпожа Львова…
Тетушка подняла руку, старательно не глядя в угол, где возвышался ее племянник.
– Лабушев Петр Ильич, кузен покойной, – произнес нотариус, почему-то не зачитывая комментарии, которая оставила Терновская.
Лабушев величаво склонил голову:
– Я здесь, благодарю вас…
– «Племянник мой двоюродный Фудель», – все-таки прочитал Эггерс, явно пропустив что-то в тексте.
Фудель подскочил и тут же сел.
– «Барышня Рузо Ольга, секретарь…»
Рузо вскинула голову и быстро сказала:
– Да…
Нотариус посмотрел в листок и обвел взглядом присутствующих.
– Господа, тут указано еще одно лицо. Анна Васильевна сделала особый комментарий, – палец указал на что-то. – Без этого лица оглашение невозможно…
Кажется, Эггерс был удивлен не меньше будущих наследников.
– Кто это лицо? – раздраженно спросил Лабушев. – Его можно пригласить?
– «Тимашева Настасья Андреевна, племянница моя», – прочел Эггерс и обратился за помощью к залу. – Господа, кому известно, где находится это лицо?
Иногда тишина бывает громче взрыва. Пушкин не знал, насколько велика неожиданность для тетушки. Но близкие родственники: кузен, двоюродный племянник и сестра, кажется, с трудом переносили известие. Только Рузо казалась безразличной.
– Но это странно, господа, – сказал Лабушев, ища поддержи. – Для чего эта девица? Нельзя ли обойтись без нее?
Эггерс сложил листок.
– Воля покойной будет исполнена в точности. Пока госпожа Тимашева не появится здесь, оглашение невозможно…
– Господин нотариус, будет ли нарушением закона, если отложить оглашение не более чем на час?
Все, кто был в кабинете оглянулись. Даже тетушка не удержалась.
– Нет… Разумеется, нет… – проговорил Эггерс.
– Тогда прошу немного подождать, – сказал Пушкин, выходя из угла. – Она проживает в двух шагах отсюда, в гостинице «Лоскутная». Привезу ее так быстро, как только смогу.
Не дожидаясь бесполезных разговоров, Пушкин вышел из кабинета.
16Второй день на службе было полегче. Голова не болела, а была, как чугунное ядро. Кирьяков бережно подпер ее рукой. Перед ним лежало не законченное с прошлого года дело, но писать сил не было. Леониду Андреевичу хотелось только одного: чтобы волшебная сила перенесла его из сыска куда-нибудь в отличный ресторан или в трактир Тестова и перед ним оказалась полная тарелка дымящегося супа с ушками. Или жирная уха из стерляди. Или даже полный казанок суточных щей. Картина была столь манящей, что Кирьяков жадно сглотнул.
Тут у его стола появилась какая-то фигура. Кирьяков осторожно поднял голову. Перед ним почтительно кланялся господин существенного вида: дородное тело в дорогом костюме. Намного дороже, чем хотел, но не мог себе позволить чиновник сыска. Купец был все тот же, что и вчера. И дело его, на полкопейки, было все то же. Сейчас начнет канючить и донимать.
– Что вам угодно? – страдальчески спросил Кирьяков, уже готовя следующий ответ: «Ищем, как найдем, сообщим».
Купец (это был Иков) дружелюбно кивнул, понимая тяжкое положение.
– Сюрпризец у меня для вас, господин полицейский…
– Прошу, говорите яснее…
Иков подвинул стул и уселся со страшным скрипом. Так и пронзившим голову. Кирьяков поморщился.
– Нашел я эту мерзавку… Знаю, где проживает.
– И где же? – без надежды на спасение спросил Кирьяков.
– В гостинице «Лоскутная»… Видел, как сегодня завтракала…
– Прекрасно… Как найдем, сообщим вам…
Купец только усмехнулся.
– Зачем искать, что найдено. Извольте со мной в «Лоскутную» пожаловать, укажу на нее. Там и схватите негодную…
Еще не хватало заниматься ловлей неизвестно кого.
– Сейчас не могу, много дел… Как-нибудь после…
– Так мы ведь понимаем-с. Зачем просто так за столом сидеть? Отобедаем, не побрезгуйте угощением. Закажем, чего душа желает. У них кухня знатная. В обиде не останетесь… Как вас по батюшке?
– Леонид Андреевич, – сказал Кирьяков, оживая перед видением обеда.
– Вот и славно, друг сердешный, Леонид Андреевич… Поехали в «Лоскутную», вдруг как раз застанем. И сцапаем!
Оставались последние сомнения.
– А если не будет ее? Придется долго ждать…
– Сколько надо, столько и посидим. За столом время летит – только успевай… Так что, Леонид Андреевич, поехали. И развлечетесь, и дельце обделаете… – Иков распахнулся дружеские объятия.
Видение становилось явью. Не тарелка, а целый роскошный обед ожидал Кирьякова. Отказаться было невозможно. Как ни трудна служба чиновника сыска, а кому-то ее делать нужно…
У полицейского дома ждали сани Икова. Ямщик полетел с гиканьем с бубенцами. Как полагается везти богатому купцу нового друга из полиции.
17От гостиницы отъехала пролетка. Пушкин успел заметить в ней Прасковью: узнал шапочку и полушубок. Догонять не имело смысла: компаньонка отправилась одна. Наверняка отправлена к Живокини. Или с белым флагом – к мадам Львовой.
Портье уже помнил его. И отправил мальчика в мундирчике за мадемуазель Тимашевой. Мальчик вернулся быстро и передал: просили подождать. Пушкин сел в кресло и стал ждать. Ему торопиться было некуда. Можно было представить, что сейчас происходит в кабинете нотариуса. Как раскаляется атмосфера. Какие теплые чувства испытывают родственники, еще не зная, кому что достанется. Без помощи Прасковьи Настасья изволила одеваться не меньше получаса.
Она вышла причесанная, в светлом платье. Оставив кресло, Пушкин подошел к ней.
– Вы? – сказала она, как будто не ожидала увидеть. – Это так неожиданно.
– Прошу вас одеться и поехать со мной.
Тимашева обеспокоилась.
– Что… Что-то случилось?
– Сейчас будет происходить оглашение завещания… Ваша тетушка Терновская пожелала, чтобы вы были в числе приглашенных…
– Я? – удивление Настасьи было искренним. – Зачем же я? Я ее почти не знала… Она меня не знала…
Оставалось только развести руками.
– Воля покойной… Надеюсь, не испугаетесь поездки со мной без Прасковьи? Тут совсем рядом, на Никольской…
Настасья задумчиво покивала.
– Хорошо, сейчас спущусь…
Пришлось ждать еще полчаса, прежде чем барышня вышла в шубке и шапочке. Отведенное время уже вышло, но Пушкин не сомневался, что их будут ждать. Он не стал предлагать барышне идти пешком, нежное создание привыкло к загранице, а не к московским тротуарам в снегу. Тем более извозчики стояли в очередь.

