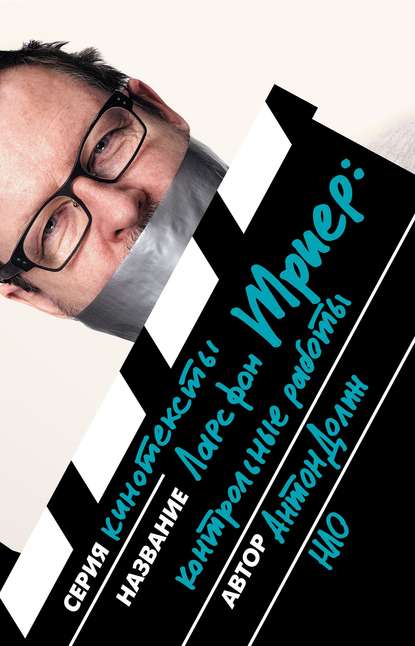По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ларс фон Триер. Контрольные работы
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Творчество не может не быть связанным с конкретным человеческим обликом. Мне кажется абсолютно нормальным, что, интересуясь тем или иным явлением в искусстве, вы не обходите вниманием и человека, который скрывается за этим явлением. И не потому, что считаете его сверхъестественным: просто вам хочется сделать его членом своей семьи, а для этого необходимо быть в курсе деталей. С этой точки зрения книги, которые я читал о Бергмане и Тарковском, очень повлияли на меня. Не знаю, важно ли было их читать, но очень соблазнительно!
На фактах вашей жизни эти книги как-то сказались?
Весьма вероятно. Могу ли я дать конкретный пример? Помню одну книгу Бергмана, в которой было много иллюстраций, кадров из его фильмов. Рассматривая их, я много думал о самом себе… Или в институте, когда я много читал… Нет, никаких примеров. С этими биографиями – как с книгами, скажем, о бобрах: кому-то они безумно интересны, из них узнают много нового, но самим бобрам глубоко наплевать на существование этих исследований. Более того, бобр никак не может использовать такие книги себе на пользу!
У вас не было желания рано или поздно написать автобиографию? Как это сделал ваш кумир Бергман.
Да уж, у него здорово получилось… У меня на памяти было немало забавных эпизодов, но это, скорее, смешные случаи из жизни. В общем, можно составить целый юмористический сборник. Вообще-то, я планировал написать небольшую книгу, которая должна была называться «Догма». Но потом я использовал это название в иных целях, как вы знаете; так книги и не получилось. Не знаю. Может, когда-нибудь что-нибудь и напишу. Если время будет. Или если проживу так долго.
Есть ли в вашей жизни факты, от которых вы хотели бы избавиться – не дать им попасть в ваши биографии?
Я сделал когда-то фильм, который назывался «Садовник, выращивающий орхидеи», и долгое время не хотел его никому показывать. Но однажды очень авторитетный человек, писатель, сказал мне: «Ты не имеешь права так поступать. Художник должен быть откровенным в таких вещах. Худшее, что можно сделать, – это отказаться от того, что ты создал: такой поступок – воплощение дурного вкуса». Я согласился с ним. Вспомним опять Тарковского или Боуи: я хотел бы знать не только их лучшие, но и худшие стороны.
Разные люди, с которыми вы работали, дают вам самые разные характеристики. Можете попытаться определить, что вы за человек?
В основном я очень милый человек. Я стараюсь изо всех сил, чтобы людям было хорошо, чтобы они хорошо себя чувствовали… Актеры в том числе. И мне приятно, когда меня любят. Но я очень упрям. Когда хочешь что-то совершить, вынужден быть упрямым. Если пишешь книгу, можешь написать в ней практически все, что пожелаешь, а затем продать ее с тем или иным успехом. Но кино – совсем другое дело: слишком много людей вовлечено в его производство. Стремление контролировать процесс делает тебя упрямым, и, разумеется, быть упрямым не слишком приятно. Никто не хочет конфликтов, а я их просто ненавижу, но не боюсь. Иногда я иду на конфликт, потому что обязан это сделать.
Вы часто даете интервью, рассказывая прессе о деталях своей личной жизни?
Практически никогда.
Почему?
Потому что я хочу делать фильмы. Лучше я свое время на что-нибудь другое потрачу. Вы своей жизнью занимайтесь, а я буду своей, насколько это возможно. Если я буду назначать журналистам встречи, беседовать с ними и все такое, это будет занимать полдня. А еще полдня я не смогу работать, потому что мои ресурсы не бесконечны. Я свой выбор сделал. Знаю, все говорят – «ну и сволочь». Что ж, прошу прощения, но выбор в жизни надо делать четко.
Вы – человек, живущий исключительно работой: во всяком случае, при поверхностном взгляде складывается именно такое впечатление. Откуда же у вас время на видеоигры?
На них я трачу время, которое мог бы потратить на просмотр других фильмов; вместо этого играю в «Silent Hill». Игра, кстати, крайне жестокая и наверняка американская. Мои дети меня не понимают, они предпочитают игры с автомобильными гонками.
2003
Отступление: Тарковский
«Посвящается Андрею Тарковскому». Когда этот титр возник на экране в финале «Антихриста», зал в Каннах начал смеяться и свистеть. Самый дикий, нелепый, необъяснимый, возмутительно-эпатажный фильм датского провокатора – и Тарковский, это ж надо! Не иначе, Ларс фон Триер опять смеется над великим режиссером, не пожалев самого святого.
Так ли велика пропасть между ними – классическим модернистом, в творчестве которого идея авторского кино достигла апогея, и глумливым провокатором-постмодернистом, на котором эта идея, кажется, исчерпала себя? Как отражается тотальная многозначительность и серьезность Тарковского в разрушительной и столь же тотальной иронии Триера?
О страстной любви Триера к фильмам Тарковского известно давно. Любимый режиссер с первых лет в Киношколе, он вдохновил датчанина на его студенческие работы и дебютный «Элемент преступления». Триер добился того, чтобы эта картина была показана Тарковскому; но тому она очень не понравилась (по меньшей мере так гласит апокриф). Этот казус никак не повлиял на любовь непризнанного ученика к высокомерному мэтру. Каждый последующий фильм Триера – доказательство своего права идти след в след за Тарковским. Его незавершенный проект «Измерение», который должен был сниматься тридцать лет, был вдохновлен концепцией «Запечатленного времени» Тарковского. Впоследствии, уходя все дальше от его эстетики, прилежно скопированной в «Картинах освобождения», «Элементе преступления», «Медее» и отчасти «Европе», Триер постепенно обретал собственный, ни на что не похожий, язык. Но по-прежнему преследовал Тарковского, как Ахиллес черепаху.
Их пути, разделенные культурными и историческими эпохами, параллельны. Русский режиссер с его мечтами об экранизации «Гамлета» и принц-самозванец кинематографа датского королевства: их сближают пижонство, эпатаж, сомнительная репутация, страстная любовь фанатов и непримиримая ненависть всех остальных. От их приверженности к небольшой группе одних и тех же актеров-друзей, которые получают то главные роли, то малозначительные эпизоды (Гринько, Солоницын, Янковский, Юзефсон у Тарковского и Скарсгорд, Кир, Барр, Дэфо у Триера), до одержимости тотальным контролем, чтобы и камера, и монтаж, и декорации, и звук были в руках одного человека: режиссера. Они не вместе, но всегда рядом, схожие, как русская «т» с латинской.
Заимствованные у русского гения атрибуты – темы, мотивы, образы, артефакты – переполняют кинематограф Триера. Их поиск может превратиться в увлекательное сафари. Здесь обожаемые Тарковским лошади, терзаемые, как в «Андрее Рублеве», по-всякому: ломающие шеи в «Элементе преступления», горящие заживо в «Мандерлее», предвещающие гибель планеты в «Меланхолии». Здесь яблоки, которых Триер не жалеет, как не жалел Тарковский, – например, в «Догвилле», где героиня буквально тонет в них, или в «Меланхолии», где другой героине жених дарит целый яблоневый сад. «Охотники на снегу» Питера Брейгеля-старшего и органная полифония Иоганна Себастьяна Баха. Но все это – мелкие оммажи, умышленные отсылки, мало что меняющие принципиально в самом строе мысли и киноязыка Триера. Куда важнее глубинная преемственность на уровне идей, персонажей, даже сюжетов, – закамуфлированная, но при ближайшем рассмотрении очевидная. Оказывается, каждый фильм Тарковского отпечатался на сетчатке глаз Триера, без единого исключения.
«Иваново детство»: отсюда у Триера лейтмотив Второй мировой войны. Его партизаны из «Картин освобождения» – наследники советских бойцов, приемной семьи Ивана, так непохожей у Тарковского на регулярное воинское соединение. Бойцы невидимого фронта, лесные братья и сестры, ведущие собственную войну вдали от поля боя, в лесах и оврагах. Они в «Картинах освобождения», снятых с точки зрения противника – немецкого офицера, – вершат правосудие, ослепляя его. Триер любит перевертыши: в «Европе» партизаны – члены секретного общества «Вервольф», состоящего из беглых нацистов. Совершая один теракт за другим, они сражаются с оккупационными властями; почти эротическая притягательность зла соблазняет и невинного американца Лео, который пытался оказаться над схваткой. Ясноглазый идеалист, наслаждающийся европейской экзотикой, он верит в четкое разделение добра и зла, правильного и ложного – и без труда его предтечу можно увидеть в лейтенанте Гальцеве. Его взгляд на войну наивней, чем у главного героя, двенадцатилетнего разведчика Ивана, вся судьба которого в фильме разделена между снами о другой жизни и неотвратимой смертью в финале. В точности как судьба Сельмы в «Танцующей в темноте».
В «Ивановом детстве» начинаются все лейтмотивы Тарковского, унаследованные и переосмысленные Триером. Текущая вода, зримый образ движущейся вечности, «запечатленного времени», – здесь почти Стикс, на другой берег которого перебирается мальчик. От канализации, по которой плывут, в буквальном смысле, пересекая границы подземного мира, герои «Элемента преступления», вода приводит Триера к прологу «Меланхолии», где его Жюстина, что твоя Офелия (опять «Гамлет»), плывет по течению – похоже, тому же, с кадров которого начинался «Солярис». Яблоки, лошади – они ведь тоже отсюда, из «Иванова детства».
«Андрей Рублев»: можно ли сказать, что у Триера есть хотя бы один фильм, в котором героем становится альтер эго, Художник с большой буквы? Вероятно, нет, к людям творческих профессий датчанин относится подчеркнуто иронично. И Средневековье у него возникает лишь однажды, в «Медее», поставленной по неосуществленному сценарию другого отца-вдохновителя, Дрейера. В ее суровых северных пейзажах можно угадать отсылку и к изобразительному аскетизму «Андрея Рублева».
Главное, что взял Триер из этого фильма, однако, связано с другим: сложной и напряженной религиозной проблематикой, которая для него – еврея, католика, атеиста – начиная с «Эпидемии» (там она возникает почти еще в шутку) становится центральной. Безблагодатность верующих, блюдущих букву, но не дух священного закона, – тот идейный и эмоциональный стержень, на который нанизана интрига «Рассекая волны». Можно не сомневаться, что финальный звон запрещенных в сектантской общине колоколов – из финальной новеллы «Андрея Рублева». Должна ли вера давать прощение, тепло и любовь, которые, вопреки пережитым кошмарам татарского набега, Рублев выражает в своей фреске «Страшный суд», или ей положено стращать смертных, учить их смирению и покорности? Думая над этим вопросом более-менее всю жизнь, Триер выносит его на открытое обсуждение в «Нимфоманке», в главе, которая так и называется: «Западная и восточная церковь», а посвящена, естественно, садомазохистским сексуальным практикам. Отправной точкой для дискуссии становится русская икона «в духе Рублева», висящая на стене комнаты главного героя картины Селигмана.
«Солярис» подарил Триеру еще один ключ ко всему его творчеству – по меньшей мере начиная с «Рассекая волны». Датчанин делает со всем своим кинематографом точно то же самое, что Тарковский сделал с переосмысленным им и переписанным романом Станислава Лема: переносит центр тяжести с раздираемого внутренними противоречиями мужчины на фигуру женщины. Пусть она слеплена из невиданных нейтрино, как Ева – из ребра Адама, именно ей определять судьбу бытия. Умирая раз за разом и возрождаясь заново, она обречена на муки – и способна искупить посредством их чужие страдания, спасти душу мужчины. Из Хари Тарковского – созданной с неслыханным даже для режиссера-перфекциониста трудом, от выбранного на энный раз цвета волос до тембра голоса, который был найден при помощи уловок звукорежиссера, – родились одна за другой Бесс, Карен, Сельма, Грейс, Жюстина и Джо. В этом фильме Тарковского, которого даже поклонники считали автором предельно далеким от сексуальности в любых ее проявлениях, Триер нашел источник для изысканного эротизма, отягощенного едва ли не первородным грехом. Хотя и в языческих ритуалах праздника Ивана Купалы в «Андрее Рублеве», и в ключевой сцене «Жертвоприношения» этот мотив ощутим столь же отчетливо.
«Зеркало» – самый важный фильм для обоих, Тарковского и Триера. Родился из замысла «Исповеди», картины, которую русский режиссер собирался снимать скрытой камерой, как интервью. От этой идеи остался пролог, в котором юношу лечат от заикания. Точно такое обрамление, с интервью в документальной манере, у Триера получили «Идиоты». «Зеркало» – фильм о родителях, прежде всего о матери: мать Триера, открывшая ему тайну его зачатия уже на смертном одре, стала невидимой героиней доброй половины его картин, включая безжалостную мать Бесс в «Рассекая волны», сыгранную Лорен Бэколл хозяйку плантации в «Мандерлее», саркастичную героиню Шарлотты Рэмплинг в «Меланхолии» и «холодную суку» (больше о ней ничего толком не сообщается) из «Нимфоманки». Властная и самоотверженная материнская любовь, снятая, опять же, будто скрытой камерой, – одна из главных тем «Танцующей в темноте». Но и отец в триеровских картинах – персонаж невероятно важный, хоть появляется ненадолго и мимолетно, как отец в «Зеркале»: прежде всего это, конечно, глава гангстеров, любящий папа и идейный оппонент Грейс в «Догвилле» и «Мандерлее». В «Нимфоманке» в самом начале героиня рассказывает о родителях, называя отца лучшим человеком, которого она знала. Его смерть становится предметом для отдельной главы – единственной, связанной с сексом лишь косвенно, посвященной на самом деле ужасу ухода в мир иной и потери контроля над собственным телом. Неудивительно, что снята она на черно-белой пленке, протяжными медленными планами, напоминающими именно о Тарковском.
Однако «Зеркало» важно, конечно, не только поэтому. Жгучая и вместе с тем уклончивая исповедальность Тарковского унаследована Триером в полной мере. Он никогда и нигде не говорит о себе напрямую и, вслед за Тарковским, практически игнорирует профессиональный аспект собственной биографии, концентрируясь на психологии и интимных переживаниях. Впервые недвусмысленно ярко это проявляется в двух кризисных фильмах, снятых Триером один за другим: «Самом главном боссе» и «Антихристе». В обоих случаях режиссер расщепляет свой портрет на два противоположных и при этом схожих элемента: в «Самом главном боссе» два персонажа-автопортрета еще и встречаются в кинозале на сеансе «Зеркала». Сходным образом построена и «Нимфоманка», где, как и в «Антихристе», зеркало составлено из двух половинок – мужской (рациональной) и женской (интуитивной).
В «Нимфоманке» же напрямую цитируется знаменитая сцена с левитацией матери – в случае Триера речь идет о непроизвольном оргазме героини, поднимающим ее над землей. А предпоследняя глава, практически бессюжетная и лирическая, называется «Зеркало». В ней Джо отправляется в клуб анонимных сексоголиков, пытаясь вылечиться от нимфомании, но потом выясняет, что изгнать чувственного демона из своей квартиры все равно не удастся, даже если убрать из дома все намекающие на секс предметы и заклеить зеркало. Самое важное живет в мыслях и памяти – идея, на которой построен и фильм Тарковского.
«Сталкер» – это прежде всего Зона. Именно ее, пространство вне географии и привычных координат, воспроизводит Триер в своих ранних фильмах, начиная с «Картин освобождения» и заканчивая «Европой». Там же он использует метод сотворения условного мира, не привязанного к конкретному и опознаваемому хронотопу, который также применялся в «Солярисе» и «Жертвоприношении». Подобно Тарковскому, который выстраивал этот ландшафт кустарно, вручную, любовно складывая в единую картину обломки эпох, культур и цивилизаций, Триер остраняет родную Европу, превращая ее в постапокалиптическое царство хаоса и неуверенности.
Но «Сталкер» – это еще и родина персонажей-идеалистов, которые становятся главными для Триера, отражая все его мании и фобии, все сомнения в возможности рационального постижения мира и его усовершенствования. Таковы Писатель и Ученый, два интеллектуала, возомнившие о себе слишком много и решившие спасти человечество, дойдя до заветной, исполняющей желания Комнаты. Сам Сталкер другой, он блаженный, юродивый, правопреемник так и не осуществленного Тарковским князя Мышкина – и праотец блаженных героинь Бесс, Карен и Сельмы, «золотых сердец» Триера. От задуманного Тарковским «Идиота» к сделанным Триером «Идиотам».
«Ностальгия» – фильм, выразивший чувство, которое Тарковский считал специфически русским, тоской по оставленной родине. Тем не менее датчанин разделяет его и выражает в своих картинах, герой которых так часто оказывается странником, случайно занесенным судьбой в неуютное и незнакомое место. Вернувшийся в Европу Фишер, покинувший родной дом Месмер, навестивший историческую родину Лео Кесслер; швед Стиг Хелмер и исландец Финнур; иммигрантка Сельма, беглянка Грейс, ощущающая себя чужой на собственной планете Жюстина. Все они чужаки, как Крис на Солярисе, а Андрей Горчаков и его вымышленный прототип Павел Сосновский – в Италии. И для каждого преодоление физической дистанции менее значимо, чем внутреннее путешествие через пересохший бассейн со свечой в руке. Сжигающий себя блаженный Доменико, сыгранный Эрландом Юзефсоном – актером-фетишем Бергмана, которого боготворит и Триер, – еще одна модификация юродивого, впервые явленного Сталкером.
Наконец, «Жертвоприношение», еще одна, более глобальная история о самосожжении. Из нее рождается тот вселенский пожар, которым Триер завершает «Меланхолию» – свою картину о Конце Света. В ней, как и у Тарковского, Апокалипсис показан минимальными средствами и превращен в испытание для героев – большинство из них ликует, и лишь один (у Триера одна) решает выстроить неправдоподобное убежище ради спасения своих близких. Интересно и то, что «Жертвоприношение» родилось из замысла под названием «Ведьма», в котором колдунья-служанка Мария помогала господину Александру избежать катастрофы. Это возвращает нас к «Антихристу», фильму о сожжении ведьмы.
Читая статьи и лекции Тарковского, трудно найти там точки соприкосновения с Триером. Однако в дневниках Тарковского можно отыскать замыслы неснятых фильмов, очень похожие на то, что делает Триер. На «Антихриста» – сразу два. Первый: «Почему-то вспомнил сегодня идею – “Двое (оба) видели лису”». И второй: «Новая Жанна д’Арк» – история о том, как один человек сжег свою возлюбленную, привязав ее к дереву и разложив костер под ее ногами. «За ложь». Дерево, кстати, тоже было фетишем для Тарковского – от первого фильма до последнего, где оно играет уже центральную роль в символическом ряде картины. Когда в «Нимфоманке» отец героини водит ее в лес и показывает деревья, сравнивая их с людьми, она пускается на поиски собственного дерева и в конце концов находит на одинокой скале согнутое, искореженное непогодой, но не сломленное. Если Триер и видит в этом дереве себя, то корни его – где-то в фильмах Тарковского.
В «Антихристе», который Триер называл важнейшей своей работой, он достигает того, за что Бергман восхвалял Тарковского. «Фильм, если это не документ, – сон, греза. Поэтому Тарковский – самый великий из всех. Для него сновидения самоочевидны, он ничего не объясняет, да что, кстати сказать, ему объяснять?» На этом, необъяснимом, пора закончить краткий экскурс в «тарковский» бэкграунд датского режиссера. А напоследок констатировать: как бы этот факт всех ни раздражал, именно Ларс фон Триер – Тарковский сегодня. С одной важной поправкой: у него, Тарковского эпохи постмодернизма, в отличие от великого предшественника, – превосходное чувство юмора.
Глава 2
Освоение пространства
Принято считать, что Ларс фон Триер не путешествует. Его фобия к перелетам и далеким переездам – факт, но такой же непреложный факт – то, что многие фильмы режиссера сняты в других странах, хоть и ближайших к Дании: Швеции и Германии. Состав артистов всегда интернационален, проблемы и ситуации – глобальны. Если он и домосед, то специфический. Да, Америка для него – слишком отдаленное место, и туда он пока не собирается. Но до Канн, южной оконечности континента, северянин Триер добирался неоднократно: в первые годы своей карьеры на поезде, впоследствии – на автомобиле. Известно, что предложенный ему каннской дирекцией авиабилет на мировую премьеру «Элемента преступления» он обменял на три железнодорожных билета в вагон второго класса, для себя и своих постоянных на тот момент коллег и соавторов, оператора Тома Эллинга и монтажера Томаса Гисласона. Что опровергает еще один миф – о зацикленности режиссера на себе и пренебрежении к коллегам.
Он действительно не приезжал в Канны в год своего первого триумфа – когда за «Рассекая волны» ему был присужден Гран-при. Однако тот нервный срыв не помешал Триеру посещать все последующие фестивали, на которые приглашались его картины. До Венеции к премьере «Пяти препятствий» он не добрался, зато в Берлин на первый показ нецензурированной «Нимфоманки» приехал, щеголяя перед зрителями в футболке с надписью «Persona non grata. Selection officiel» и не сказав ни публике, ни прессе ни одного слова. Трудно утверждать с полной уверенностью, в чем причина выбора несуразно дорогих гостиниц, где Триер обычно селится, приезжая на фестивали (его дом и тем более студия в Дании выдержаны в спартанском духе): то ли это компенсация за психологический дискомфорт, то ли своеобразная акция протеста.
Нехватку личного опыта в области путешествий Ларс фон Триер восполняет фильмами. Их действие чаще всего разворачивается вдали от Копенгагена – в далекой Европе или Америке. Отдаление от предмета и среды описания с самого начала карьеры режиссер подчеркивает на языковом уровне. Уже второй фильм Триера, «Блаженная Менте», снят на французском, которого режиссер не знает. Остроумно отстранившись от чужого литературного материала (впоследствии все, за исключением «Медеи», картины он снимал по собственным сценариям), Триер полностью сконцентрировался на изображении, демонстративно не придавая значения диалогам. Не слишком они, по признанию автора, важны и в его англоязычном полнометражном дебюте, стилизованном под американский нуар «Элементе преступления». В «Эпидемии» персонажи-сценаристы пытаются придать своему будущему фильму вселенское значение, переводя его с родного датского на английский. В «Европе» английский язык маркирует главного героя, который приезжает в Европу из Америки. Действие «Рассекая волны» и «Нимфоманки» происходит в условной Великобритании, «Танцующей в темноте», «Догвилля» и «Мандерлея» – в столь же условных США. Но и во вселенских «Антихристе» и «Меланхолии» герои разговаривают по-английски.
Немаловажный смысл применения английского языка – интеграция в интернациональный контекст. Триер не стремится в Голливуд, но исповедует сознательный и последовательный космополитизм, в духе привитого матерью коммунизма: даже его мобильный телефон звонит мелодией «Интернационала». Те актеры, которые переходят из одного триеровского фильма в другой, по происхождению – европейцы, снимающиеся в англоязычных фильмах: немец Удо Кир, француз Жан-Марк Барр, швед Стеллан Скарсгорд, француженка Шарлотта Гэнзбур.
Ларс фон Триер любит обосновывать свою эстетическую стратегию, выбор сюжетов и персонажей, а также конкретных изобразительных технологий впечатлениями детства. Многократно упоминая о повлиявших на него фильмах, режиссер никогда не забывает назвать «Детей капитана Гранта» – своеобразную Библию путешественника, морскую кругосветку: из нее, по словам Триера, вышли все «водные» сцены его фильмов. Впрочем, напоминают они и о бесконечных потоках и заводях из картин учителей и кинематографических кумиров режиссера, судьбы которых прямо связаны с путешествиями. Бергман надолго уезжал из Швеции, жил за границей на правах эмигранта во время громкого скандала с налогами, снимал фильмы с американскими продюсерами («Змеиное яйцо») и на немецком материале («Из жизни марионеток»). Дрейер не был ни понят, ни любим на родине: он работал в Швеции («Вдова пастора»), Норвегии («Невеста Гломдаля»), Германии («Михаэль») и Франции («Страсти Жанны д’Арк»). Тарковский покинул советскую Россию и дал своему первому европейскому фильму название «Ностальгия». Йорген Лет уехал из Дании, чтобы поселиться на Гаити.
Любопытный факт: в карьере Ларса фон Триера можно найти примеры обращения к большинству жанров современного кино. Нет только одного: road movie, «фильма дороги». Герои Триера прибывают издалека или отправляются в незнакомые места, но процесс путешествия практически всегда остается за кадром. Лишь в самом исповедальном и эксгибиционистском фильме, «Эпидемии», Ларс вместе с соавтором сценария Нильсом отправляется на автомобиле в соседнюю Германию. Окружающий мир, увиденный из окна, подчеркнуто безлик и бесцветен, как и бесконечно одинаковая земля, наблюдаемая доктором Месмером с вертолета, на котором он облетает зачумленные равнины. Краски в повествование привносит рассказ Удо Кира, с которым Ларс и Нильс встречаются в Кельне, – его повесть о рождении под бомбами союзников (полностью фиктивная, хотя и воспринятая многими зрителями как реальность) оказывается куда более увлекательным путешествием, чем фактические передвижения сценаристов. Путешествия, на сей раз по железной дороге, мы встречаем и в «Европе». Железнодорожная компания «Zentropa», куда поступает работать проводником главный герой, не позволяет ему преодолевать пространство, а, напротив, замыкает в малодружелюбной тесноте узких коридоров и неуютных купе, в которых его периодически настигают сердитые клиенты или строгие экзаменаторы, решающие вопрос его трудоустройства. Не случайно именно вагон поезда, из которого невозможно выбраться по собственной воле, становится в конечном счете могилой незадачливого американца.
Одна из (и, по мнению режиссера, самая удачная) короткометражек, снятых Триером в Киношколе, называется «Ноктюрн». Семиминутная зарисовка, перегруженная загадочными символами, напоминает о лучших образцах видеоклипов 1980-х. Ее сюжет – беспокойная ночь, проводимая героиней накануне отлета из родного города. Единственная сюжетообразующая деталь – авиабилет «Копенгаген – Буэнос-Айрес»: возможно, самый дальний маршрут, пришедший в голову молодому режиссеру? В финале «Ноктюрна» девушка с чемоданом выходит из дома на рассвете и в последнем кадре бросает взгляд на небо, чтобы увидеть стройно летящих в неизвестном направлении птиц. Эта невозможность полета, которую пытается преодолеть лишенный крыльев человек, стала фактически отправной точкой зрелого творчества Ларса фон Триера.
Чужестранец
В дипломной работе «Картины освобождения» Триер впервые применил драматургическую модель, ставшую позже фирменной, вплоть до «Антихриста» и «Нимфоманки»: построил предельно загадочное пространство, ни разу не показанное общим планом, и заставил взаимодействовать в нем двух персонажей, мужчину и женщину. Мы не знаем о них практически ничего: ни черт характеров, ни продолжительности отношений, ни взаимных обязательств. Известны только имена – Лео, Эстер – и географически-историческая ситуация. Действие происходит на следующий день после окончания Второй мировой войны в Копенгагене, где солдаты и офицеры немецких войск готовятся к приходу союзников. Нацист Лео вновь встречается с былой возлюбленной, датчанкой. Он в Дании – оккупант, внезапно, в течение одного дня, превратившийся в нежеланного иностранца. Двусмысленность его положения очевидна: придя на чужую территорию для того, чтобы ее подчинить, в результате он оказался пленником. Пейзаж предательски меняется. Сначала вокруг Лео – инфернально-огненные закоулки (первая сцена снималась на заброшенной фабрике) неидентифицируемого лабиринта. Потом он вроде бы находит точку знакомых координат, Эстер, но их любви, похоже, пришел конец. Отношения лишь сохраняют видимость для того, чтобы привести Лео к закономерному трагическому финалу: он оказывается в лесу – якобы для того, чтобы спрятаться от союзников. Именно там его настигает кара партизан. Пытаясь скрыться, герой оказывается в ловушке по воле и вине своей бывшей возлюбленной. Лес становится не укрытием, а чужим и угрожающим местом, где нетрудно заблудиться. Это и происходит – за кадром – с Лео, которого ослепляют. Лишают зрения и тем самым последнего шанса найти выход из ситуации и пейзажа.
Характерна нетривиальная точка зрения, выбранная Триером: родной город показан глазами врага, чужака, иностранца. Совпадение этих определений в одном персонаже обусловлено историческими фактами, но в дальнейшем и в куда менее конфликтных ситуациях любой пришелец в фильмах Ларса фон Триера будет становиться нежеланным и подлежащим наказанию и/или изгнанию. Для двух из трех своих трилогий режиссер выбирает название с указанием на географию: в первой («Элемент преступления», «Эпидемия», «Европа») это Европа, рассматриваемая как чужое и незнакомое пространство, в третьей, начатой «Догвиллем», – США. В своих фильмах Триер предлагает одну за другой разнообразные модели столкновения персонажа с незнакомым ему пространством.
В «Элементе преступления» рассматривается ситуация эмигранта, приехавшего на родину после многолетнего отсутствия: отвыкнув от знакомых реалий, не успев понять суть произошедших изменений, детектив Фишер оказывается один на один с неизвестной Европой. В «Эпидемии» Ларс фон Триер и Нильс Ворсель (не авторы сценария, а персонажи) едут в Кельн на правах туристов, чтобы выслушать своеобразную городскую легенду в исполнении своего приятеля Удо Кира. Меж тем, герой фильма доктор Месмер отправляется вглубь родного континента, контуры которого искажены после страшного мора, – открывает землю заново как первопроходец-миссионер. В «Европе» в Германию приезжает иностранец, чьи корни опять-таки лежат здесь, в неведомой стране, прекраснодушный американец Леопольд. В «Танцующей в темноте» мы сталкиваемся с ситуацией еще одного эмигранта – матери-одиночки из Чехословакии, Сельмы. В «Догвилле» мы видим Грейс, которая попадает в чужой ландшафт, не выезжая за пределы необъятной родины – США; в отличие от Месмера, она не путешественник, а беглец. Нельзя не обратить внимание на еще одну деталь: даже в тех картинах, сюжетная основа которых не предполагает появления странника в незнакомых краях, все равно сохраняется общая конфликтная схема.
Единственный раз в жизни Триер осуществил постановку не по своему сценарию. Это дань почтения автору нереализованного сценария, духовному отцу и учителю Дрейеру, – телевизионный фильм «Медея», основанный на трагедии Еврипида. Вряд ли можно считать случайным, что, выбрав раз в жизни чужой – даже дважды чужой – сюжет, Триер остановился именно на «Медее»: истории нелюбимой жены, которую мужчина оставляет ради молодой красавицы царской крови, истории иностранки, которую муж вывез из далеких стран, чтобы потом бросить. Ясон оставляет Медею в краю, далеком от родного дома, где ничто и никто не может поддержать ее, защитить ее права. Жуткое решение героини отомстить мужу, убив его невесту, а заодно общих с ним детей – поступок человека, которому нечего терять. Действие мифа о Медее должно происходить в Древней Греции, но Триер переносит его в скандинавские широты, придавая антуражу сходство с бытом викингов. Режиссер вновь рассказывает о чужеземце в своей родной стране, и вновь с его точки. Этим путем достигается двойной эффект: отстранение знакомого пейзажа, показанного глазами неофита, и создание непроницаемого, загадочного героя, в душе которого ни зритель, ни сам автор читать не в состоянии.
На фактах вашей жизни эти книги как-то сказались?
Весьма вероятно. Могу ли я дать конкретный пример? Помню одну книгу Бергмана, в которой было много иллюстраций, кадров из его фильмов. Рассматривая их, я много думал о самом себе… Или в институте, когда я много читал… Нет, никаких примеров. С этими биографиями – как с книгами, скажем, о бобрах: кому-то они безумно интересны, из них узнают много нового, но самим бобрам глубоко наплевать на существование этих исследований. Более того, бобр никак не может использовать такие книги себе на пользу!
У вас не было желания рано или поздно написать автобиографию? Как это сделал ваш кумир Бергман.
Да уж, у него здорово получилось… У меня на памяти было немало забавных эпизодов, но это, скорее, смешные случаи из жизни. В общем, можно составить целый юмористический сборник. Вообще-то, я планировал написать небольшую книгу, которая должна была называться «Догма». Но потом я использовал это название в иных целях, как вы знаете; так книги и не получилось. Не знаю. Может, когда-нибудь что-нибудь и напишу. Если время будет. Или если проживу так долго.
Есть ли в вашей жизни факты, от которых вы хотели бы избавиться – не дать им попасть в ваши биографии?
Я сделал когда-то фильм, который назывался «Садовник, выращивающий орхидеи», и долгое время не хотел его никому показывать. Но однажды очень авторитетный человек, писатель, сказал мне: «Ты не имеешь права так поступать. Художник должен быть откровенным в таких вещах. Худшее, что можно сделать, – это отказаться от того, что ты создал: такой поступок – воплощение дурного вкуса». Я согласился с ним. Вспомним опять Тарковского или Боуи: я хотел бы знать не только их лучшие, но и худшие стороны.
Разные люди, с которыми вы работали, дают вам самые разные характеристики. Можете попытаться определить, что вы за человек?
В основном я очень милый человек. Я стараюсь изо всех сил, чтобы людям было хорошо, чтобы они хорошо себя чувствовали… Актеры в том числе. И мне приятно, когда меня любят. Но я очень упрям. Когда хочешь что-то совершить, вынужден быть упрямым. Если пишешь книгу, можешь написать в ней практически все, что пожелаешь, а затем продать ее с тем или иным успехом. Но кино – совсем другое дело: слишком много людей вовлечено в его производство. Стремление контролировать процесс делает тебя упрямым, и, разумеется, быть упрямым не слишком приятно. Никто не хочет конфликтов, а я их просто ненавижу, но не боюсь. Иногда я иду на конфликт, потому что обязан это сделать.
Вы часто даете интервью, рассказывая прессе о деталях своей личной жизни?
Практически никогда.
Почему?
Потому что я хочу делать фильмы. Лучше я свое время на что-нибудь другое потрачу. Вы своей жизнью занимайтесь, а я буду своей, насколько это возможно. Если я буду назначать журналистам встречи, беседовать с ними и все такое, это будет занимать полдня. А еще полдня я не смогу работать, потому что мои ресурсы не бесконечны. Я свой выбор сделал. Знаю, все говорят – «ну и сволочь». Что ж, прошу прощения, но выбор в жизни надо делать четко.
Вы – человек, живущий исключительно работой: во всяком случае, при поверхностном взгляде складывается именно такое впечатление. Откуда же у вас время на видеоигры?
На них я трачу время, которое мог бы потратить на просмотр других фильмов; вместо этого играю в «Silent Hill». Игра, кстати, крайне жестокая и наверняка американская. Мои дети меня не понимают, они предпочитают игры с автомобильными гонками.
2003
Отступление: Тарковский
«Посвящается Андрею Тарковскому». Когда этот титр возник на экране в финале «Антихриста», зал в Каннах начал смеяться и свистеть. Самый дикий, нелепый, необъяснимый, возмутительно-эпатажный фильм датского провокатора – и Тарковский, это ж надо! Не иначе, Ларс фон Триер опять смеется над великим режиссером, не пожалев самого святого.
Так ли велика пропасть между ними – классическим модернистом, в творчестве которого идея авторского кино достигла апогея, и глумливым провокатором-постмодернистом, на котором эта идея, кажется, исчерпала себя? Как отражается тотальная многозначительность и серьезность Тарковского в разрушительной и столь же тотальной иронии Триера?
О страстной любви Триера к фильмам Тарковского известно давно. Любимый режиссер с первых лет в Киношколе, он вдохновил датчанина на его студенческие работы и дебютный «Элемент преступления». Триер добился того, чтобы эта картина была показана Тарковскому; но тому она очень не понравилась (по меньшей мере так гласит апокриф). Этот казус никак не повлиял на любовь непризнанного ученика к высокомерному мэтру. Каждый последующий фильм Триера – доказательство своего права идти след в след за Тарковским. Его незавершенный проект «Измерение», который должен был сниматься тридцать лет, был вдохновлен концепцией «Запечатленного времени» Тарковского. Впоследствии, уходя все дальше от его эстетики, прилежно скопированной в «Картинах освобождения», «Элементе преступления», «Медее» и отчасти «Европе», Триер постепенно обретал собственный, ни на что не похожий, язык. Но по-прежнему преследовал Тарковского, как Ахиллес черепаху.
Их пути, разделенные культурными и историческими эпохами, параллельны. Русский режиссер с его мечтами об экранизации «Гамлета» и принц-самозванец кинематографа датского королевства: их сближают пижонство, эпатаж, сомнительная репутация, страстная любовь фанатов и непримиримая ненависть всех остальных. От их приверженности к небольшой группе одних и тех же актеров-друзей, которые получают то главные роли, то малозначительные эпизоды (Гринько, Солоницын, Янковский, Юзефсон у Тарковского и Скарсгорд, Кир, Барр, Дэфо у Триера), до одержимости тотальным контролем, чтобы и камера, и монтаж, и декорации, и звук были в руках одного человека: режиссера. Они не вместе, но всегда рядом, схожие, как русская «т» с латинской.
Заимствованные у русского гения атрибуты – темы, мотивы, образы, артефакты – переполняют кинематограф Триера. Их поиск может превратиться в увлекательное сафари. Здесь обожаемые Тарковским лошади, терзаемые, как в «Андрее Рублеве», по-всякому: ломающие шеи в «Элементе преступления», горящие заживо в «Мандерлее», предвещающие гибель планеты в «Меланхолии». Здесь яблоки, которых Триер не жалеет, как не жалел Тарковский, – например, в «Догвилле», где героиня буквально тонет в них, или в «Меланхолии», где другой героине жених дарит целый яблоневый сад. «Охотники на снегу» Питера Брейгеля-старшего и органная полифония Иоганна Себастьяна Баха. Но все это – мелкие оммажи, умышленные отсылки, мало что меняющие принципиально в самом строе мысли и киноязыка Триера. Куда важнее глубинная преемственность на уровне идей, персонажей, даже сюжетов, – закамуфлированная, но при ближайшем рассмотрении очевидная. Оказывается, каждый фильм Тарковского отпечатался на сетчатке глаз Триера, без единого исключения.
«Иваново детство»: отсюда у Триера лейтмотив Второй мировой войны. Его партизаны из «Картин освобождения» – наследники советских бойцов, приемной семьи Ивана, так непохожей у Тарковского на регулярное воинское соединение. Бойцы невидимого фронта, лесные братья и сестры, ведущие собственную войну вдали от поля боя, в лесах и оврагах. Они в «Картинах освобождения», снятых с точки зрения противника – немецкого офицера, – вершат правосудие, ослепляя его. Триер любит перевертыши: в «Европе» партизаны – члены секретного общества «Вервольф», состоящего из беглых нацистов. Совершая один теракт за другим, они сражаются с оккупационными властями; почти эротическая притягательность зла соблазняет и невинного американца Лео, который пытался оказаться над схваткой. Ясноглазый идеалист, наслаждающийся европейской экзотикой, он верит в четкое разделение добра и зла, правильного и ложного – и без труда его предтечу можно увидеть в лейтенанте Гальцеве. Его взгляд на войну наивней, чем у главного героя, двенадцатилетнего разведчика Ивана, вся судьба которого в фильме разделена между снами о другой жизни и неотвратимой смертью в финале. В точности как судьба Сельмы в «Танцующей в темноте».
В «Ивановом детстве» начинаются все лейтмотивы Тарковского, унаследованные и переосмысленные Триером. Текущая вода, зримый образ движущейся вечности, «запечатленного времени», – здесь почти Стикс, на другой берег которого перебирается мальчик. От канализации, по которой плывут, в буквальном смысле, пересекая границы подземного мира, герои «Элемента преступления», вода приводит Триера к прологу «Меланхолии», где его Жюстина, что твоя Офелия (опять «Гамлет»), плывет по течению – похоже, тому же, с кадров которого начинался «Солярис». Яблоки, лошади – они ведь тоже отсюда, из «Иванова детства».
«Андрей Рублев»: можно ли сказать, что у Триера есть хотя бы один фильм, в котором героем становится альтер эго, Художник с большой буквы? Вероятно, нет, к людям творческих профессий датчанин относится подчеркнуто иронично. И Средневековье у него возникает лишь однажды, в «Медее», поставленной по неосуществленному сценарию другого отца-вдохновителя, Дрейера. В ее суровых северных пейзажах можно угадать отсылку и к изобразительному аскетизму «Андрея Рублева».
Главное, что взял Триер из этого фильма, однако, связано с другим: сложной и напряженной религиозной проблематикой, которая для него – еврея, католика, атеиста – начиная с «Эпидемии» (там она возникает почти еще в шутку) становится центральной. Безблагодатность верующих, блюдущих букву, но не дух священного закона, – тот идейный и эмоциональный стержень, на который нанизана интрига «Рассекая волны». Можно не сомневаться, что финальный звон запрещенных в сектантской общине колоколов – из финальной новеллы «Андрея Рублева». Должна ли вера давать прощение, тепло и любовь, которые, вопреки пережитым кошмарам татарского набега, Рублев выражает в своей фреске «Страшный суд», или ей положено стращать смертных, учить их смирению и покорности? Думая над этим вопросом более-менее всю жизнь, Триер выносит его на открытое обсуждение в «Нимфоманке», в главе, которая так и называется: «Западная и восточная церковь», а посвящена, естественно, садомазохистским сексуальным практикам. Отправной точкой для дискуссии становится русская икона «в духе Рублева», висящая на стене комнаты главного героя картины Селигмана.
«Солярис» подарил Триеру еще один ключ ко всему его творчеству – по меньшей мере начиная с «Рассекая волны». Датчанин делает со всем своим кинематографом точно то же самое, что Тарковский сделал с переосмысленным им и переписанным романом Станислава Лема: переносит центр тяжести с раздираемого внутренними противоречиями мужчины на фигуру женщины. Пусть она слеплена из невиданных нейтрино, как Ева – из ребра Адама, именно ей определять судьбу бытия. Умирая раз за разом и возрождаясь заново, она обречена на муки – и способна искупить посредством их чужие страдания, спасти душу мужчины. Из Хари Тарковского – созданной с неслыханным даже для режиссера-перфекциониста трудом, от выбранного на энный раз цвета волос до тембра голоса, который был найден при помощи уловок звукорежиссера, – родились одна за другой Бесс, Карен, Сельма, Грейс, Жюстина и Джо. В этом фильме Тарковского, которого даже поклонники считали автором предельно далеким от сексуальности в любых ее проявлениях, Триер нашел источник для изысканного эротизма, отягощенного едва ли не первородным грехом. Хотя и в языческих ритуалах праздника Ивана Купалы в «Андрее Рублеве», и в ключевой сцене «Жертвоприношения» этот мотив ощутим столь же отчетливо.
«Зеркало» – самый важный фильм для обоих, Тарковского и Триера. Родился из замысла «Исповеди», картины, которую русский режиссер собирался снимать скрытой камерой, как интервью. От этой идеи остался пролог, в котором юношу лечат от заикания. Точно такое обрамление, с интервью в документальной манере, у Триера получили «Идиоты». «Зеркало» – фильм о родителях, прежде всего о матери: мать Триера, открывшая ему тайну его зачатия уже на смертном одре, стала невидимой героиней доброй половины его картин, включая безжалостную мать Бесс в «Рассекая волны», сыгранную Лорен Бэколл хозяйку плантации в «Мандерлее», саркастичную героиню Шарлотты Рэмплинг в «Меланхолии» и «холодную суку» (больше о ней ничего толком не сообщается) из «Нимфоманки». Властная и самоотверженная материнская любовь, снятая, опять же, будто скрытой камерой, – одна из главных тем «Танцующей в темноте». Но и отец в триеровских картинах – персонаж невероятно важный, хоть появляется ненадолго и мимолетно, как отец в «Зеркале»: прежде всего это, конечно, глава гангстеров, любящий папа и идейный оппонент Грейс в «Догвилле» и «Мандерлее». В «Нимфоманке» в самом начале героиня рассказывает о родителях, называя отца лучшим человеком, которого она знала. Его смерть становится предметом для отдельной главы – единственной, связанной с сексом лишь косвенно, посвященной на самом деле ужасу ухода в мир иной и потери контроля над собственным телом. Неудивительно, что снята она на черно-белой пленке, протяжными медленными планами, напоминающими именно о Тарковском.
Однако «Зеркало» важно, конечно, не только поэтому. Жгучая и вместе с тем уклончивая исповедальность Тарковского унаследована Триером в полной мере. Он никогда и нигде не говорит о себе напрямую и, вслед за Тарковским, практически игнорирует профессиональный аспект собственной биографии, концентрируясь на психологии и интимных переживаниях. Впервые недвусмысленно ярко это проявляется в двух кризисных фильмах, снятых Триером один за другим: «Самом главном боссе» и «Антихристе». В обоих случаях режиссер расщепляет свой портрет на два противоположных и при этом схожих элемента: в «Самом главном боссе» два персонажа-автопортрета еще и встречаются в кинозале на сеансе «Зеркала». Сходным образом построена и «Нимфоманка», где, как и в «Антихристе», зеркало составлено из двух половинок – мужской (рациональной) и женской (интуитивной).
В «Нимфоманке» же напрямую цитируется знаменитая сцена с левитацией матери – в случае Триера речь идет о непроизвольном оргазме героини, поднимающим ее над землей. А предпоследняя глава, практически бессюжетная и лирическая, называется «Зеркало». В ней Джо отправляется в клуб анонимных сексоголиков, пытаясь вылечиться от нимфомании, но потом выясняет, что изгнать чувственного демона из своей квартиры все равно не удастся, даже если убрать из дома все намекающие на секс предметы и заклеить зеркало. Самое важное живет в мыслях и памяти – идея, на которой построен и фильм Тарковского.
«Сталкер» – это прежде всего Зона. Именно ее, пространство вне географии и привычных координат, воспроизводит Триер в своих ранних фильмах, начиная с «Картин освобождения» и заканчивая «Европой». Там же он использует метод сотворения условного мира, не привязанного к конкретному и опознаваемому хронотопу, который также применялся в «Солярисе» и «Жертвоприношении». Подобно Тарковскому, который выстраивал этот ландшафт кустарно, вручную, любовно складывая в единую картину обломки эпох, культур и цивилизаций, Триер остраняет родную Европу, превращая ее в постапокалиптическое царство хаоса и неуверенности.
Но «Сталкер» – это еще и родина персонажей-идеалистов, которые становятся главными для Триера, отражая все его мании и фобии, все сомнения в возможности рационального постижения мира и его усовершенствования. Таковы Писатель и Ученый, два интеллектуала, возомнившие о себе слишком много и решившие спасти человечество, дойдя до заветной, исполняющей желания Комнаты. Сам Сталкер другой, он блаженный, юродивый, правопреемник так и не осуществленного Тарковским князя Мышкина – и праотец блаженных героинь Бесс, Карен и Сельмы, «золотых сердец» Триера. От задуманного Тарковским «Идиота» к сделанным Триером «Идиотам».
«Ностальгия» – фильм, выразивший чувство, которое Тарковский считал специфически русским, тоской по оставленной родине. Тем не менее датчанин разделяет его и выражает в своих картинах, герой которых так часто оказывается странником, случайно занесенным судьбой в неуютное и незнакомое место. Вернувшийся в Европу Фишер, покинувший родной дом Месмер, навестивший историческую родину Лео Кесслер; швед Стиг Хелмер и исландец Финнур; иммигрантка Сельма, беглянка Грейс, ощущающая себя чужой на собственной планете Жюстина. Все они чужаки, как Крис на Солярисе, а Андрей Горчаков и его вымышленный прототип Павел Сосновский – в Италии. И для каждого преодоление физической дистанции менее значимо, чем внутреннее путешествие через пересохший бассейн со свечой в руке. Сжигающий себя блаженный Доменико, сыгранный Эрландом Юзефсоном – актером-фетишем Бергмана, которого боготворит и Триер, – еще одна модификация юродивого, впервые явленного Сталкером.
Наконец, «Жертвоприношение», еще одна, более глобальная история о самосожжении. Из нее рождается тот вселенский пожар, которым Триер завершает «Меланхолию» – свою картину о Конце Света. В ней, как и у Тарковского, Апокалипсис показан минимальными средствами и превращен в испытание для героев – большинство из них ликует, и лишь один (у Триера одна) решает выстроить неправдоподобное убежище ради спасения своих близких. Интересно и то, что «Жертвоприношение» родилось из замысла под названием «Ведьма», в котором колдунья-служанка Мария помогала господину Александру избежать катастрофы. Это возвращает нас к «Антихристу», фильму о сожжении ведьмы.
Читая статьи и лекции Тарковского, трудно найти там точки соприкосновения с Триером. Однако в дневниках Тарковского можно отыскать замыслы неснятых фильмов, очень похожие на то, что делает Триер. На «Антихриста» – сразу два. Первый: «Почему-то вспомнил сегодня идею – “Двое (оба) видели лису”». И второй: «Новая Жанна д’Арк» – история о том, как один человек сжег свою возлюбленную, привязав ее к дереву и разложив костер под ее ногами. «За ложь». Дерево, кстати, тоже было фетишем для Тарковского – от первого фильма до последнего, где оно играет уже центральную роль в символическом ряде картины. Когда в «Нимфоманке» отец героини водит ее в лес и показывает деревья, сравнивая их с людьми, она пускается на поиски собственного дерева и в конце концов находит на одинокой скале согнутое, искореженное непогодой, но не сломленное. Если Триер и видит в этом дереве себя, то корни его – где-то в фильмах Тарковского.
В «Антихристе», который Триер называл важнейшей своей работой, он достигает того, за что Бергман восхвалял Тарковского. «Фильм, если это не документ, – сон, греза. Поэтому Тарковский – самый великий из всех. Для него сновидения самоочевидны, он ничего не объясняет, да что, кстати сказать, ему объяснять?» На этом, необъяснимом, пора закончить краткий экскурс в «тарковский» бэкграунд датского режиссера. А напоследок констатировать: как бы этот факт всех ни раздражал, именно Ларс фон Триер – Тарковский сегодня. С одной важной поправкой: у него, Тарковского эпохи постмодернизма, в отличие от великого предшественника, – превосходное чувство юмора.
Глава 2
Освоение пространства
Принято считать, что Ларс фон Триер не путешествует. Его фобия к перелетам и далеким переездам – факт, но такой же непреложный факт – то, что многие фильмы режиссера сняты в других странах, хоть и ближайших к Дании: Швеции и Германии. Состав артистов всегда интернационален, проблемы и ситуации – глобальны. Если он и домосед, то специфический. Да, Америка для него – слишком отдаленное место, и туда он пока не собирается. Но до Канн, южной оконечности континента, северянин Триер добирался неоднократно: в первые годы своей карьеры на поезде, впоследствии – на автомобиле. Известно, что предложенный ему каннской дирекцией авиабилет на мировую премьеру «Элемента преступления» он обменял на три железнодорожных билета в вагон второго класса, для себя и своих постоянных на тот момент коллег и соавторов, оператора Тома Эллинга и монтажера Томаса Гисласона. Что опровергает еще один миф – о зацикленности режиссера на себе и пренебрежении к коллегам.
Он действительно не приезжал в Канны в год своего первого триумфа – когда за «Рассекая волны» ему был присужден Гран-при. Однако тот нервный срыв не помешал Триеру посещать все последующие фестивали, на которые приглашались его картины. До Венеции к премьере «Пяти препятствий» он не добрался, зато в Берлин на первый показ нецензурированной «Нимфоманки» приехал, щеголяя перед зрителями в футболке с надписью «Persona non grata. Selection officiel» и не сказав ни публике, ни прессе ни одного слова. Трудно утверждать с полной уверенностью, в чем причина выбора несуразно дорогих гостиниц, где Триер обычно селится, приезжая на фестивали (его дом и тем более студия в Дании выдержаны в спартанском духе): то ли это компенсация за психологический дискомфорт, то ли своеобразная акция протеста.
Нехватку личного опыта в области путешествий Ларс фон Триер восполняет фильмами. Их действие чаще всего разворачивается вдали от Копенгагена – в далекой Европе или Америке. Отдаление от предмета и среды описания с самого начала карьеры режиссер подчеркивает на языковом уровне. Уже второй фильм Триера, «Блаженная Менте», снят на французском, которого режиссер не знает. Остроумно отстранившись от чужого литературного материала (впоследствии все, за исключением «Медеи», картины он снимал по собственным сценариям), Триер полностью сконцентрировался на изображении, демонстративно не придавая значения диалогам. Не слишком они, по признанию автора, важны и в его англоязычном полнометражном дебюте, стилизованном под американский нуар «Элементе преступления». В «Эпидемии» персонажи-сценаристы пытаются придать своему будущему фильму вселенское значение, переводя его с родного датского на английский. В «Европе» английский язык маркирует главного героя, который приезжает в Европу из Америки. Действие «Рассекая волны» и «Нимфоманки» происходит в условной Великобритании, «Танцующей в темноте», «Догвилля» и «Мандерлея» – в столь же условных США. Но и во вселенских «Антихристе» и «Меланхолии» герои разговаривают по-английски.
Немаловажный смысл применения английского языка – интеграция в интернациональный контекст. Триер не стремится в Голливуд, но исповедует сознательный и последовательный космополитизм, в духе привитого матерью коммунизма: даже его мобильный телефон звонит мелодией «Интернационала». Те актеры, которые переходят из одного триеровского фильма в другой, по происхождению – европейцы, снимающиеся в англоязычных фильмах: немец Удо Кир, француз Жан-Марк Барр, швед Стеллан Скарсгорд, француженка Шарлотта Гэнзбур.
Ларс фон Триер любит обосновывать свою эстетическую стратегию, выбор сюжетов и персонажей, а также конкретных изобразительных технологий впечатлениями детства. Многократно упоминая о повлиявших на него фильмах, режиссер никогда не забывает назвать «Детей капитана Гранта» – своеобразную Библию путешественника, морскую кругосветку: из нее, по словам Триера, вышли все «водные» сцены его фильмов. Впрочем, напоминают они и о бесконечных потоках и заводях из картин учителей и кинематографических кумиров режиссера, судьбы которых прямо связаны с путешествиями. Бергман надолго уезжал из Швеции, жил за границей на правах эмигранта во время громкого скандала с налогами, снимал фильмы с американскими продюсерами («Змеиное яйцо») и на немецком материале («Из жизни марионеток»). Дрейер не был ни понят, ни любим на родине: он работал в Швеции («Вдова пастора»), Норвегии («Невеста Гломдаля»), Германии («Михаэль») и Франции («Страсти Жанны д’Арк»). Тарковский покинул советскую Россию и дал своему первому европейскому фильму название «Ностальгия». Йорген Лет уехал из Дании, чтобы поселиться на Гаити.
Любопытный факт: в карьере Ларса фон Триера можно найти примеры обращения к большинству жанров современного кино. Нет только одного: road movie, «фильма дороги». Герои Триера прибывают издалека или отправляются в незнакомые места, но процесс путешествия практически всегда остается за кадром. Лишь в самом исповедальном и эксгибиционистском фильме, «Эпидемии», Ларс вместе с соавтором сценария Нильсом отправляется на автомобиле в соседнюю Германию. Окружающий мир, увиденный из окна, подчеркнуто безлик и бесцветен, как и бесконечно одинаковая земля, наблюдаемая доктором Месмером с вертолета, на котором он облетает зачумленные равнины. Краски в повествование привносит рассказ Удо Кира, с которым Ларс и Нильс встречаются в Кельне, – его повесть о рождении под бомбами союзников (полностью фиктивная, хотя и воспринятая многими зрителями как реальность) оказывается куда более увлекательным путешествием, чем фактические передвижения сценаристов. Путешествия, на сей раз по железной дороге, мы встречаем и в «Европе». Железнодорожная компания «Zentropa», куда поступает работать проводником главный герой, не позволяет ему преодолевать пространство, а, напротив, замыкает в малодружелюбной тесноте узких коридоров и неуютных купе, в которых его периодически настигают сердитые клиенты или строгие экзаменаторы, решающие вопрос его трудоустройства. Не случайно именно вагон поезда, из которого невозможно выбраться по собственной воле, становится в конечном счете могилой незадачливого американца.
Одна из (и, по мнению режиссера, самая удачная) короткометражек, снятых Триером в Киношколе, называется «Ноктюрн». Семиминутная зарисовка, перегруженная загадочными символами, напоминает о лучших образцах видеоклипов 1980-х. Ее сюжет – беспокойная ночь, проводимая героиней накануне отлета из родного города. Единственная сюжетообразующая деталь – авиабилет «Копенгаген – Буэнос-Айрес»: возможно, самый дальний маршрут, пришедший в голову молодому режиссеру? В финале «Ноктюрна» девушка с чемоданом выходит из дома на рассвете и в последнем кадре бросает взгляд на небо, чтобы увидеть стройно летящих в неизвестном направлении птиц. Эта невозможность полета, которую пытается преодолеть лишенный крыльев человек, стала фактически отправной точкой зрелого творчества Ларса фон Триера.
Чужестранец
В дипломной работе «Картины освобождения» Триер впервые применил драматургическую модель, ставшую позже фирменной, вплоть до «Антихриста» и «Нимфоманки»: построил предельно загадочное пространство, ни разу не показанное общим планом, и заставил взаимодействовать в нем двух персонажей, мужчину и женщину. Мы не знаем о них практически ничего: ни черт характеров, ни продолжительности отношений, ни взаимных обязательств. Известны только имена – Лео, Эстер – и географически-историческая ситуация. Действие происходит на следующий день после окончания Второй мировой войны в Копенгагене, где солдаты и офицеры немецких войск готовятся к приходу союзников. Нацист Лео вновь встречается с былой возлюбленной, датчанкой. Он в Дании – оккупант, внезапно, в течение одного дня, превратившийся в нежеланного иностранца. Двусмысленность его положения очевидна: придя на чужую территорию для того, чтобы ее подчинить, в результате он оказался пленником. Пейзаж предательски меняется. Сначала вокруг Лео – инфернально-огненные закоулки (первая сцена снималась на заброшенной фабрике) неидентифицируемого лабиринта. Потом он вроде бы находит точку знакомых координат, Эстер, но их любви, похоже, пришел конец. Отношения лишь сохраняют видимость для того, чтобы привести Лео к закономерному трагическому финалу: он оказывается в лесу – якобы для того, чтобы спрятаться от союзников. Именно там его настигает кара партизан. Пытаясь скрыться, герой оказывается в ловушке по воле и вине своей бывшей возлюбленной. Лес становится не укрытием, а чужим и угрожающим местом, где нетрудно заблудиться. Это и происходит – за кадром – с Лео, которого ослепляют. Лишают зрения и тем самым последнего шанса найти выход из ситуации и пейзажа.
Характерна нетривиальная точка зрения, выбранная Триером: родной город показан глазами врага, чужака, иностранца. Совпадение этих определений в одном персонаже обусловлено историческими фактами, но в дальнейшем и в куда менее конфликтных ситуациях любой пришелец в фильмах Ларса фон Триера будет становиться нежеланным и подлежащим наказанию и/или изгнанию. Для двух из трех своих трилогий режиссер выбирает название с указанием на географию: в первой («Элемент преступления», «Эпидемия», «Европа») это Европа, рассматриваемая как чужое и незнакомое пространство, в третьей, начатой «Догвиллем», – США. В своих фильмах Триер предлагает одну за другой разнообразные модели столкновения персонажа с незнакомым ему пространством.
В «Элементе преступления» рассматривается ситуация эмигранта, приехавшего на родину после многолетнего отсутствия: отвыкнув от знакомых реалий, не успев понять суть произошедших изменений, детектив Фишер оказывается один на один с неизвестной Европой. В «Эпидемии» Ларс фон Триер и Нильс Ворсель (не авторы сценария, а персонажи) едут в Кельн на правах туристов, чтобы выслушать своеобразную городскую легенду в исполнении своего приятеля Удо Кира. Меж тем, герой фильма доктор Месмер отправляется вглубь родного континента, контуры которого искажены после страшного мора, – открывает землю заново как первопроходец-миссионер. В «Европе» в Германию приезжает иностранец, чьи корни опять-таки лежат здесь, в неведомой стране, прекраснодушный американец Леопольд. В «Танцующей в темноте» мы сталкиваемся с ситуацией еще одного эмигранта – матери-одиночки из Чехословакии, Сельмы. В «Догвилле» мы видим Грейс, которая попадает в чужой ландшафт, не выезжая за пределы необъятной родины – США; в отличие от Месмера, она не путешественник, а беглец. Нельзя не обратить внимание на еще одну деталь: даже в тех картинах, сюжетная основа которых не предполагает появления странника в незнакомых краях, все равно сохраняется общая конфликтная схема.
Единственный раз в жизни Триер осуществил постановку не по своему сценарию. Это дань почтения автору нереализованного сценария, духовному отцу и учителю Дрейеру, – телевизионный фильм «Медея», основанный на трагедии Еврипида. Вряд ли можно считать случайным, что, выбрав раз в жизни чужой – даже дважды чужой – сюжет, Триер остановился именно на «Медее»: истории нелюбимой жены, которую мужчина оставляет ради молодой красавицы царской крови, истории иностранки, которую муж вывез из далеких стран, чтобы потом бросить. Ясон оставляет Медею в краю, далеком от родного дома, где ничто и никто не может поддержать ее, защитить ее права. Жуткое решение героини отомстить мужу, убив его невесту, а заодно общих с ним детей – поступок человека, которому нечего терять. Действие мифа о Медее должно происходить в Древней Греции, но Триер переносит его в скандинавские широты, придавая антуражу сходство с бытом викингов. Режиссер вновь рассказывает о чужеземце в своей родной стране, и вновь с его точки. Этим путем достигается двойной эффект: отстранение знакомого пейзажа, показанного глазами неофита, и создание непроницаемого, загадочного героя, в душе которого ни зритель, ни сам автор читать не в состоянии.