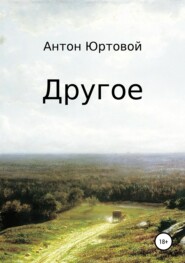По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подкова на счастье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Широченная деревянная родительская кровать тёмно-бордового цвета с массивными спинками, со вставляемыми в них сверху скруглёнными резными деталями, изрядно расшатанная, при всего одной жёсткой подушке и жалким подобием других постельных на ней принадлежностей, с клопами, засевшими в каждой возможной её расщелинке, за отсутствием отца, теперь принимала в себя вместе с мамой и нас, двоих её младших сыновей, которых удобнее было размещать поперёк – повдоль или слегка наискось по отношению к одной из спинок. Это на случай, когда не топилась печь.
Глыба этого громоздкого каменно-кирпичного сооружения забирала часть комнаты, и подняться на неё было легко отсюда же, из комнаты, заскочив сначала на невысокую продолговатую при?печь, устроенную для просушки чего-нибудь намокшего или отсыревшего, и только затем – на её грубоватую глинистую поверхность, до блеска затёртую пребывающими на ней и «пользующимися» ею.
Тепло здесь было в радость любое – и свежее, возникавшее непосредственно при исто?пе, и «задержанное», когда на лежаке сначала буквально припекало, а после, в течение многих часов, он, как, впрочем, и стенки пе?чи, продолжал греть, медленно остывая, так что запаса или «остатков» тепла могло хватать чуть ли не до нового разогрева махины к следующей ночи.
Когда печь топилась, а необходимость в этом возникала даже летом, при похолоданиях, мы, малолетки, предпочитали спать на ней, и не только спать: в позднеосеннюю пору и зимой, когда рано темнело, а освещение практически отсутствовало, бывало в удовольствие пригреться там, подложив под себя некое драньё или прикрывшись им и предвкушая своё участие в чём-то, что казалось необычайно волнующим и почти таинственным…
В компанию могли приниматься дружки, такие же по возрасту, как и мы со средним братом, жившие по соседству, а то и кто-нибудь постарше нас.
Наступали удивительные часы бдения перед сном, заполнявшиеся разговорами о чём-нибудь текущем или недолгим молчанием, когда можно было сосредоточиться и обдумать услышанное; иногда предпочтение отдавалось устным ро?ссказням – приукрашенным былям или – сказкам, часто уводившим во что-нибудь страшное и ужасное, так что, если ты не рассказываешь сам, то лежишь, боясь шелохнуться, замирая, и как бы ждёшь, что случиться услышанное может уже сейчас, вот-вот, и оно случится непременно при твоём присутствии или даже с тобой, раз ты оказался вовлечён туда и оказался там, причём больше никого рядом к развязке происходящего, к твоему ужасу, не остаётся, ты как будто ощущаешь почти физическую боль от неких мерзостных прикосновений дурного человека или чудовища, а то и обоих сразу, тебя охватывает страх, и ты готов закричать, но неожиданно, уже на самом жутком месте рассказчик замолкает, ты этому чертовски рад, спешишь воздать за услышанное хвалой, но также ещё и знаешь, что ты ещё и невероятно смущён, поскольку продолжаешь бояться, и тебе стыдно не только от овладевшего тобой страха, а и от того, что ты вынужден скрывать его в себе…
Здесь каждый торопился поведать своё, удивляя слушателей самой невообразимой свежей тематикой и неистощимой фантазией.
Отмечу особо, что обогатить атмосферу такого потрясающе занимательного общения брались иногда сестра и самый старший брат, уже ввиду возраста считавшие себя как бы не ро?вней нам, малолеткам, и даже – мама, всячески поощрявшая наши импровизации…
Сюжеты редко брались из книг: существовал и создавался набор таких ро?ссказней, когда едва ли не каждая из них имела автора, находившегося тут же, рядом, как то было своеобразной традицией, завезённой сюда из Малоро?ссии, где подобное уложение фантастического с чертовщиной привычно для каждого уже чуть ли не с рождения, а здесь ра?звито на свой, местный лад, то есть приправленное ещё и чем-то другим, завезённым из других сторон, или сложившееся непосредственно на месте, где живёшь, отражая колорит чего-то очень яркого и близкого.
В одной такой байке речь шла именно о местном, здешнем; я, по крайней мере, ничего подобного никогда и нигде не слыхал.
Некий странный и страшный человек, чуть ли не сам чёрт или ведьмак, был горазд делать любому пакости, предотвратить которые никому не удавалось. Приводился целый ряд его проделок с разными людьми, причём, натешившись тем, что досадил им, он отпускал их… Последний потерпевший в этой цепочке – молодой смышлёный и отважный парнишка – долго увёртывался от насылаемых на него напастей. Но досталось и ему. В тот момент, когда могло казаться, что вурдалаку справиться с ним не по силам, тот кликнул в подмогу отвратительного и жестокого змия.
Рассказчик постарался во многих деталях и приметах очертить облик этой гнусной рептилии. Относилась она к семейству удавов. «Хозяин», управлявший гадом, приказал ему спуститься с горы, где тот обитал, а по склону её как раз пролегал путь удальца, не поддававшегося козням страшного человека.
Всё бы ничего, если бы удав, видимый смельчаку на горе, начал к нему ползти, как то присуще змеям. Но он не полз, а катился, свернувшись колесом, поскольку же был длинен, колесо образовалось из нескольких кругов – частей мерзкого тела. В таком-то невообразимом виде и на огромной скорости он и обрушился на свою жертву.
Справиться с гадом удальцу не составило бы труда, схватив его руками за голову и задушив. Но голова пряталась внутри колеса, – где она и как успеешь до неё дотянуться? Удав же, за мгновение обвив паренька собою, начал душить его. Проделкою вурдалак и на этот раз доказал, что он неодолим…
Притча явно указывала на признаки чудесного в расхожих местных представлениях: в селе распространялись упорные слухи о том, что кто-то не только видел здешних удавов, но и сталкивался с ними, побывав в их смертельных тисках…
Отдавая должное подобным увлекательным и смелым импровизациям, где немалое значение имел опыт участия в них, когда особую ценность приобретал багаж нафантазированного тобой и другими, я могу сказать, что им, таким способом сочинения или выдумывания, в очень значительной степени оттеснялся во мне мир сказок, излагавшихся в художественной литературе, причём даже известнейшими её мастерами.
Казался он, такой мир, ограниченным, как чересчур отшлифованный, когда пределом свободе служит сама изящная форма изложения, подчиняемая неким жёстким правилам, но главное, из-за чего он отторгался, состояло в его явной или скрытой назидательности.
Будучи измышлены в рамках событий, связанных с конкретной, как правило, официально признаваемой историей, и становясь хрестоматийными, такие произведения уже будто бы изначально неотделимы от детских интересов и восприимчивости и адресованы исключительно детям, хотя это может быть и не совсем так. Их навязывание не обязательно должно означать, что детям они вполне понятны и близки. Я, по крайней мере, начинал сомневаться в такой «сказочной» литературе, в том её, к примеру, аспекте, когда «наполняющими» их действующими лицами становились цари, князья, богатые невесты, неожиданно появлявшиеся потомки, обязательно входившие в привилегированное, богатое сословие, и проч., а герои, на подвигах которых замыкалась фабула, также обязательно служили только им; отсюда недалеко было до крайней осторожности в выборе такой «сказочной» литературы и её усвоении, а в иных случаях доходило прямо-таки до нелюбви к ней, в чём я не стыжусь признаться и теперь, по прошествии многих десятилетий, когда в сказке уже не видишь не только чего-либо занимательного, но и поучительности, урока – хотя б для кого, то есть я говорю здесь опять о той самой назидательности, явной или скрытой…
Само собой, на печи? не обходилось без присутствия кота, о котором я уже упоминал. С верха пе?чи то и дело раздавался весёлый смех или возгласы, какими комментировались слова рассказчика.
Печь для нас была доброю подругою, но она показывала и норов: из места, где находилась заслонка, или из её очага, особенно в ветреную погоду, в избу вдруг начинал валить дым. Это значило, что в её утробе образовался излишек сажи, она сдерживала движение дыма к трубе, где в свою очередь преграждал ему путь ветер, но чистить проходы, частью их разбирая, полагалось только хозяину, другие брались за это нехотя…
Также печь могла преподнести настоящее несчастье, если на ней кто-нибудь раньше, чем истощался жар в очаге, перекрывал заслонку. Изба тогда наполнялась угарным газом; при отравлениях им вовсе не исключался летальный исход.
Стены го?рницы не отличались изящной отделкой. В избе раньше проживали другие люди. Оставленное ими теперь выглядело удручающе: пятна от протекавшей через соломенную крышу дождевой воды; осыпающаяся, хотя и наложенная недавно свежая извёстка; местами отвалившаяся глиняная замазка, где была видна скреплявшая её деревянная дранка.
Хотя мама постоянно устраняла такие изъяны, они появлялись снова. У при?печи стоял деревянный топчан. Он служил в основном для меня. На нём я проводил иногда целые дни, когда меня одолевали приступы недомогания и кто-либо укладывал меня сюда. В стене напротив было два окна, закрывавшиеся ставнями, оба без подоконников. Поскольку болел я почему-то чаще в летнюю пору, топчан переносился туда – при надобности можно было приоткрывать форточку или оконную створку, чтобы в комнату мог поступать свежий воздух.
Лёжа и страдая от головных и иных болей, я с тоской и равнодушием вглядывался в оконные стекла, почти сплошь закрываемые ветками растущих возле избы черёмуховых деревьев, изумлявших обильным весенним цветением и неистощимым резким, казавшимся прогорклым, хотя и освежающим запахом, от которого у меня усиливалось круженье головы; когда сильно пригревало солнце, дышать становилось труднее, но приходилось терпеть. В случае ветра или грозы черёмуховые ветки энергично бились и тёрлись о стёкла, и ощущение какого-то насилия над моей сущностью также и в эти моменты выражалось заметнее.
Под черёмухами, стоявшими повдоль забора и закрывавшими вид на сельскую улицу, в жаркое время слышалась возня и спорное ворчание кур; место их привлекало относительною прохладой, которую давала не только листва, но и взбитая ими до состояния пыли прикорневая почва; пробуя зарываться в неё, чтобы охладиться, или разгребая её в надежде найти там что-нибудь съедобное, куры часто очищали сами себя, шумно встряхиваясь и взмахивая крыльями.
От них не отходил их амбициозный, постоянно излишне возбуждённый и осторожничавший вожатый на упругих, цепких, высоких ногах, горланивший свои наставления и характерным прикокиванием призывавший подруг, если ему попадалось на земле годное к употреблению лакомство, чтобы его преподнести в дар кому-то из желавших этого.
Постоянное его напоминание о себе дисциплинировало кур; только наиболее непослушная из них позволяла себе выбегать иногда сквозь щель в заборе на улицу, где у калитки росла одинокая берёза с толстым стволом без веток в нижней его части и спрятаться тут было негде, в чём необходимость могла наступить буквально сразу: открытое место тщательно просматривали сверху сапсан, коршун или иная хищная птица.
Нового со стороны обоих окон ничего особенного не происходило, а к тому, что происходило, я был равнодушен, тем более, что видеть там я ничего не мог. Зимой за окнами, из-за того, что преградой снегам служили черёмухи, практически не наметало сугробы. В сильные морозы стёкла раскрашивались серебристо-белыми разводами инея, переходившими на части рам, и отсветами с богатой, переливающейся цветовой гаммой, где преобладал фиолет. Отсветы казались подвижными и как бы плавающими в своих очаровательных сочетаниях; постоянно возникало нечто своеобразное и увлекающее.
Их разглядыванием с верха пе?чи возбуждалось желание найти в них некий скрытый смысл, надолго установленный повелением зимы и как бы слегка искрящийся, намекающий на что-то впереди, не только угрюмое, но и ласковое, светлое, что могло случиться снаружи, и это рождало чувство ожидания и надежды, так что сезонная грусть легко сменялась беззаботностью и даже весельем, когда помнилось лишь хорошее…
В стене, под прямым углом к той, где летом стоял мой топчан, было ещё одно окно – выходившее во двор и навстречу поднимавшемуся с востока солнцу. Ставень на нём не было, но зато был подоконник, занятый парой низкорослых цветов – чтобы не сильно загораживать свет.
Если подойти ближе к этому окну, вид открывался на часть огорода, бревенчатый и не мазаный сарай с буграми навоза возле него, собственно сам двор, с ко?злами для распилки на поленья доставляемого сюда и здесь подсыхавшего дровяного припаса, и – немного улицы, широкой и в течение дня в основном пустынной, от которой двор отделялся одной, продольной стенкой сарая, невзрачным забором из колючей проволоки и невзрачными же низкими жердевыми воротцами, а также входной калиткой в том углу двора, к которому подступали черёмуховые деревья.
Именно из этого окна мы увидели пришельца, приносившего призывную повестку на отца. В состоянии слабости и упадка сил я часто вспоминал это горестное для нас событие того вечера с грозовым дождём, хотя особо и не стремился подходить к стёклам, для чего надо было вставать, а при этом у меня начинала сильнее разбаливаться голова, так что за лучшее было оставаться на месте.
Там, в облоге, открывавшемся из окна, находилось, конечно, немало интересного, и я просто оставлял его рассматривание на последующее время, когда бы мог выходить из избы, зная, что в этом случае рассматривание будет намного результативнее и, значит, полезнее, несмотря на то, что многое там становилось мне известным уже раньше.
Теперь, глядя в ту сторону из-за стола, где я готовил уроки, я не стремился видеть через него внешнее; больше для меня значило относимое к сути интерьера; например, я находил значительной близость к окну иконки в невзрачном узком окладе, бывшей в избе единственной вещью ритуала вероисповедания.
Она размещалась в углу на примитивной подставке, и мать, когда она не так чтобы часто, обычно по вечерам, уже перед отходом ко сну, торопливо крестясь, становилась перед нею и здесь утешала себя тихою, недолгой и нехитрою молитвой, её исхудалая фигурка запечатлевалась на фоне того окна без ставень по-особенному угнетённой и трогательно близкой и всецело понятной мне, как будто бы за нею и теперь виделась мне та, зловеще мелькнувшая при грозе тень пришельца с призывной повесткой, постоянно очерняющая страдательные, искренние, доверительные обращения матери к богу, о котором она знала, конечно, очень мало, но просто почитала его из чувства солидарности со многими почитавшими его, кого она знала.
В го?рнице особую как для меня, так и для всех членов семьи значимость могли иметь расставляемые у стен деревянные, используемые как сиденья и – для возлежаний продолговатые лавки, а также ещё два предмета особо достойные, чтобы быть здесь упомянутыми: выдававшаяся от потолка и разделявшая его ровно надвое поперечная лага в виде только слегка проструганного и побеленного бревна, и – пол из нетолстых деревянных досок, изрядно иссохших, так что между ними образовались приличные щели, не крашеный, но достаточно гладкий.
От лаги вниз провисал ввёрнутый в неё крюк для подвешивания зыбки; это изогнутое приспособление, будучи привычным едва ли не в каждой сельской избе того времени, здесь, в нашем приюте, хотя и досталось нам, как и она в целом, от прежних обитателей, но должно было символизировать постоянное и как бы неизбежное прирастание численного состава семьи за счёт новорождённых.
Зыбки у нас не оказалось; она вероятно была где-то потеряна или забыта при переезде, почему я и подчёркивал, рассказывая об умершем при рождении нашем братике, что мать большей частью держала его на своих руках, а если укладывала, то на кровати, рядом с собой. Был ещё вариант его укладывания в так называемой ванне – простом корыте для стирки, выдолбленном из куска дерева, но то?, чем мы располагали, было слишком мелким, мало пригодным для размещения дитяти, и оно вовсе не предназначалось для подвешивания на крюк у потолка.
Никому не приходило в голову снять крюк с места, где он оставался хотя и без надобности, но – как напоминание, что кому-то он ещё может понадобиться, жизнь-то кругом, как она ни бедна и трудна, продолжается…
Что касалось дощатого пола, то по отношению к нему полагался особый уход. Тут спали сестра и нечасто приезжавший на побывку из райцентра самый старший наш брат, а также, в редких случаях, кто-нибудь из односельчан, если он из-за чего-то задерживался у нас допоздна, а снаружи сильно дождило или бушевала пурга, заметавшая проходы на улицах.
Зимой на полу устраивались разные нехитрые игры, вроде догонялок, когда, чтобы не дать прикоснуться к себе, убегавший норовил юркнуть под кровать, закружиться вместе с преследователем вокруг стола и даже запрыгнуть на при?печь и дальше на саму печь, и такие манипуляции неизбежно приводили к настоящему хаосу и гвалту, когда отдельные приёмы жарко оспаривались, но всем было весело до хохота, и несусветный тарарам, слышный с улицы, мог зазвать в избу другую детвору, чему никем не чинилось никаких препятствий, поскольку ходить по дощатой поверхности позволялось не только босиком, но и в обувке.
Мать находила возможность регулярно мыть пол в комнате, проскрёбывая доски ножом и обильно их смачивая мокрой тряпкой и вытирая выкрученной, отчего посвежевшие после такой обработки доски издавали присущие дереву запахи новизны и трогательную, яркую и мягкую гулкость, сообщая особую лёгкость и чистоту также и воздуху.
То же касалось и пола в кухонной части избы. Мать не переставала вменять всем нам в обязанность подметать поверхность по очереди, которую мы, дети, сами между собой устанавливали. Дощатое покрытие имело, впрочем, тот недостаток, что под ним легко заводились мыши и крысы. Выдворить эту нечисть не удавалось. Из-под пола можно было услышать писк молодых выводков, а взрослым, видимо, ничего не стоило выгрызать доски из-под низа, делая в них отверстия, чтобы наведываться непосредственно в избу. Кот хотя и пугал и даже ловил некоторых из особо смелых, но поголовье их будто не убывало.
Иногда звуки прогрызания досок слышались одновременно в разных местах общей площади. Мало было и этого: шустрые проказники проделывали проходы в стенах, добираясь по ним, казалось, до чердака. Шуршание в стене означало недоброе, – когда вдруг, совершенно неожиданно от неё отваливался кус глиняной штукатурки, обнажая дранку…
Раз в год, по случаю Нового года, в го?рнице устанавливалась ёлка высотою ровно до потолка.
Приносимая с мороза, она долго и пахуче оттаивала, из-за чего было стойким ощущение, что и много позже особый, трепетный и терпкий хвойный запах исходил от неё исключительно ввиду прохваченности её жестоким наружным холодом, причём – где-то ещё в лесу, там, где она росла, вкруговую обмётанная снизу толстым, плотным слоем снега и густо, также повкруг, припорошенная им сверху.
Наряжалась ёлка очень скромно. Ведь не было ни блестящих игрушек, ни рассыпных блёстков, ни тем более конфет или хотя бы фантиков, не говоря уже о лампочках, которые можно было бы зажечь. Листочки тетрадной бумаги, частью свёрнутые в кольца, трубочки или – колокольчиками, подкрашенные школьными фиолетовыми чернилами, да наспех собранные игрушечные поделки собственного изготовления, в основном из той же бумаги или из дерева, или вдруг невесть откуда-то взявшийся иссохший, сморщенный и жёсткий маленький плод дикой груши на удлинённой прочной плодоножке, – собственно, вот и всё, что употреблялось для обряжания красавицы.
Домашняя обстановка не диктовала и излишне усложненных форм её почитания и преклонения перед нею. Старшие хотя и принимали активное участие в подготовке к празднику и его, так сказать, ходу, но инициативу отдавали нам, детям. С приближением полуночи наступала атмосфера какой-то тихой нутряной торжественности и взволнованности, общей и – в каждом, когда произносилось мало слов, а на отчасти смущённых лицах и в сдерживаемых движениях участников действа угадывался приток мыслей, необычайно обогащённых и самой торжественностью момента, и осознанием ценности события, когда оно, единственное за целый год, наконец наступало и вот сейчас протекает как что-то неповторимое в истории и почти не знаемое, объединяя и сближая всех присутствующих, так редко собирающихся вместе в таком сплочённом, дружном, желанном составе.
Волшебными казались минуты перехода от старого года к новому, когда жадные взгляды всех собравшихся бывали устремлены на стрелки висевших на стене часов с продолговатою будто бы тощею гирею на невзрачной цепи?; больша?я стрелка, которой следовало подойти к цифре «двенадцать», воспринималась неподвижною и странной, утяжелявшей суть момента, из-за чего все отрешённо замирали, и лишь при достижении стрелкой желанной метки на циферблате присутствующие издавали разом, как сговорясь, вздох облегчения и восторженной сопричастности.
Тут были редкими и непродолжительными декламации каких-либо стишков; обходилось вовсе без исполнения песен или танцев. Было видно, что все отдают отчёт их неуместности – в связи с тотальной, почти несокрушимой бедностью и усугублявшей её войной.