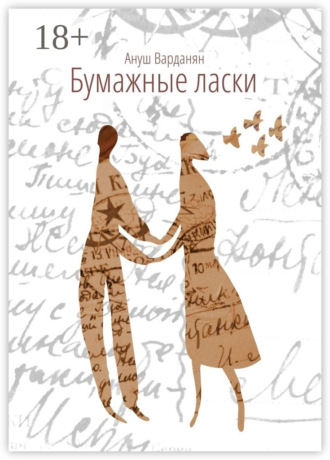
Ты, знаешь, Ася, уже осень наступает, уже деревья теряют листья, Ася. А ветер сегодня завывает. Тонкий, дряблый, нудный-нудный – такой тягучий дождь. Темно на дворе. Я сейчас один. Часы и у меня стучат, и в гостиной. А Ася хочет сюда приехать, и уже только для меня, совсем не для других. Я сейчас тоже сильно хочу видеть Асю. Пусть приедет, пусть приедет сюда осенью, и мы оба будем вспоминать о весне… Да?
Когда я был у вас… Почему я ни в одном письме не говорил об этом? Ушло, заклепало. Давно. Давно… ух, как давно. Как бред, как метеор мелькнуло. Фейерверк рассыпался тысячами блесток и догорел. Не блеснет, не прорежет больше неба миллионами звездочек. Девочки на петроградских вечеринках. Стрелка на Васильевском под утро. Эх, пьем. День душит день, и уходит время.
И Минна. Она мне не отвечает. Но это все равно. Я все равно в ней увлекся своим красивым чувством и желанием, а не ее. …Грустные, слегка опиумные глаза Аси, такие зовущие и задумчивые. «Вот этот цветок в память о той ночи». Я надолго расставался с Ленинградом. Когда я снова увижу тебя? Такую же экзальтированную, горячую, неуравновешенную, как раньше. Я тебя буду ласкать, сделаю тебя горящей, как сам. И мы будем спорить: «Зачем…» Правда? Будем заполнять каждый угол. Досказывать не будем, как до сих пор: кузина и кузен не досказывают. Ведь мы все же в первую очередь товарищи, друзья.
26 августа. Я перечитываю предыдущие строки. Почти как в романе. Манерно получается, правда? А я это невольно: слово следует за мыслью, а не наоборот. Ты не совсем веришь, кажется. Но я не могу изменить строя своих писем – мне бы пришлось насиловать себя и совсем натянуто получилось бы.
Я многое помню и вспоминаю. Но запоминать и ярко переживать прошлое не всем дано. Из литературных типов Печорин, например, отличался сильным неумением забывать. Я, пожалуй, в этом отношении сродни герою Лермонтова. Многого не умею забыть. Остаешься вот так иногда с самим собой и предаешься власти далекого. Время притупляет остроту и силу пережитого: прошлое ровно-ровно вспыхивает, теплится где-то вдали и незримо расплывается, сливаясь со мглой. А на смену новое воспоминание – зовет, истомно манит и вновь угасает.
Женщина для меня – источник радости. Мои мысли пересыпаются ею. Я люблю следить за тем, как она незаметно врывается в мое сознание и кружит голову. Не хочу профанировать, не хочу принижать, хочу сам создавать мир красоты. Это дань молодости, но молодости бурливой, кипучей, не застойной. И пусть быстротечность молодости не сдерживает меня – я хотел бы заполнять каждую минуту. А в молодости молодые минуты, и не нужно их драпировать морщинками мудрости и мнимой тоски.
Мои объекты – бабы, они очень бедны, знаю. Когда подойдешь к ним, к тем женщинам, то зачастую не о чем и говорить или говоришь о вещах, что самому стыдно. Но среди них есть и другие женщины. Я и пробуждаю в них женщин. Я умею развертывать в них все богатства женщины и промотать их до конца. На кровати, на траве, под деревом – а она так же хочет меня, как я ее. Страстно, пылко, жгуче. Мы можем не коснуться один другого, но наше дыхание, наши вынужденные обрывистые слова, придушенные страстью, выдают нас.
И мы с тобой тоже. Мы толкали вспять наши желания, но твои стройные ноги и мрамор рук все же раздражали меня, и тяжело было сдерживать себя. А тебе? Все это теперь притуплено и потоплено во многом другом, но оно еще задымится, воспрянет, ударит по струнам. Да, Ася… А потом опять далеко.
Когда я был в Ленинграде, мне как-то странно было возвращаться к повседневной жизни в Киев. Казалось, что не смогу ходить по узким улицам Киева, ведь они так малы, не смогу взять надолго-долго свой писарский карандаш в руки и диктовать изо дня в день бумажки машинистке. Не смогу опять возвратиться к набившим оскомину девушкам… А возвратился и взялся. И теперь, конечно, вжился в эту обстановку и больше думаю о бумажке №3721, чем о самом важном в Ленинграде. «Бытие определяет сознание». Я понимаю, будь я дольше в Ленинграде, мне и тамошняя жизнь начала бы однообразной казаться. Но сейчас меня заедает киевская жизнь. Работаю, гуляю и целыми неделями не успеваю думать. Колесо наворачивает, наворачивает, и никак не остановить. Бегу за ним. Ты думаешь, для того чтобы не остаться в полпути? Нет! Сам не знаешь для чего. Само вертит.
Я все страдаю колитом. Похудел неимоверно: с приезда от вас потерял уже больше 15 фунтов. Был у доктора, говорит: хронический колит и требует долгого лечения. Где мне следить за собой? Это во всех отношениях невозможно. Подурнел, Сюта. Писал, кажется, что снял волосы. А худоба еще больше дурнит. Девочки недовольны. Боюсь акции падут. Поднимем, если захотим: Госбанк поддержит.
Будет осень. Будет тоскливо как никогда. Небо не будет меня слушать и покроется тучами, вечно грязными и льющими грязью. Деревья меня тоже не послушают и пожелтят свои ветки, отдадут свои листья. Станет пусто, голо, серо, сиро. Буду кутаться, сутулиться и прятаться от пронизывающего холода. Шлепать грязь – гулко, мокро. А потом зима – долго – белая. И уйдет бесцветное время. Мы не возвратим его, Ася. Никак. И отсчитает нить жизни двадцать три. 23 по эту сторону. И в эти 23 я только секретарь комслужа с видами на понижение. Потонул в мелочах. И закисну, завязну, как все, как 999 из 1000. Потому что я как все. Меня только гложет властолюбие, тщеславие. Но объективно я маленький человечек, идущий по проторенной дорожке и применяющий те же методы борьбы, что и другие.
И промелькнет молодость, как путевой пейзаж. Позади книжечка с веселыми и печальными картинками, впереди жена, дети и лысина. Да-да, так оно, Ася. Я рассуждаю глобально, но шаблонно – не вытравишь.
Когда-то в ранней юности я думал, что у меня есть огонь, горение, но я боюсь людей и прячу его. А теперь я уж и не боюсь, и не прячу: у меня попросту нет ничего.
Но я «мыслящее существо». Когда задумываюсь, ловлю себя на пустоте, отсюда меланхолия, пессимизм. Это в основе. Знай это, Ася. Ну, на этот раз я себя разволновал как никогда в переписке с тобой.
Я пишу уже часов 5—6. И писал бы еще. Но лучше довольно.
Теряя терпение, Ася бросает письмо на кровать.
Нужно успеть привести себя в порядок перед вечеринкой. Доучить параграф из истории и привести себя в порядок. Там будет Минна, и Асе нужно выглядеть в сто раз лучше любимой подруги.
22/X 1924 г.
Киев
Твое последнее письмо, Васюта, действительно несколько удивило меня и озадачило. Что-то нервное, неуравновешенное, экзальтированное, ни одной мысли до конца. Как это понять? А тут еще намеки «влияние человека», «не знаю, что со мной»… Что сие означать должно? Блудно и непонятно.
Я теперь, вот уже 2 дня, сижу дома – болен ангиной. Пользуюсь этим, чтобы написать. А то в последнее время приходил домой только обедать и спать, до того занят был. Много воды притекло с тех пор, как я тебе не писал. Как там у вас с наводнением?16 Я бы хотел все подробности об этом, а ты ограничилась маленькой открыткой.
По правде сказать, ждал от тебя подробного письма вообще. Не дождался очевидно… Кто из наших знакомых пострадал от наводнения и чем? Как оно началось? Знали ли ранее?
У меня тут много жизни. Работа на службе неимоверно усложнилась: по 3—4 заседания или собрания в день. Интересно, но только я б хотел все это на производстве проводить. В институте сдал в последнюю сессию: 5 зачетов. До окончания осталось еще 12. Если разрешат, я к январю буду кончать.
Прошел уже чистку. Официально результаты еще неизвестны, но товарищ, близкий к «высшим кругам», сказал, что я не «абортирован». Как с остальными будет, не знаю…
Строю перспективы будущего. Больше чем когда-либо! Окончу институт, тогда либо в партию и на производство, либо в армию. В Нефтесиндикате вряд ли останусь.
Как с твоей поездкой в Ревель? И вообще с планами? Может, письмо мое тебя в Ленинграде не застанет? Перешлют.
Что в компании поделывают? Минна в частности?
Ну, целую тебя. Приветствую всех
Твой Дузя1925
Ася. К черту Дузю!
А вот теперь он ее взбесил. По-настоящему разозлил, превратившись вдруг в средоточие чопорности. Он поучает Асю, он высокомерно нравоучает, раскладывает свои моралите, как записной проповедник откуда-нибудь из Винницы томики Святого Писания на консоли молящихся. А разве он имеет на это хоть тень права?! Никакого права! Мерзкий Дузька! Дурной и неблагодарный! А она-то мучилась необъяснимой виной за то, что понравился ей белокурый и голубоглазый Исанька Менакер на одном шумном праздничке. Понравился больше, чем остальные, что означает, дольше, чем на остальных задержала на нем Ася взгляд под тяжелыми веками. Ася разрывает письмо и бросает половинки на пол.
Не с кем даже посоветоваться по поводу мерзкого Дузьки. И Лёлечка хандрит. Доктор говорит, что нужно окружить ее тишиной и покоем. А какой еще покой, они и так все на цыпочках ходят мимо ее комнаты. Маме такого не расскажешь. И Ася поднимает листки, складывает их на столе и с омерзением перечитывает.
15/VII 1925 г.
Киев
Вот выдержки из твоих писем
«Я изменилась сильно… к худшему. Ты бы меня сейчас не любил бы…». «Стала задумываться, чтобы прокатиться в Ревель… Есть там много нужд в смысле обмундировки, так что было бы очень кстати пополнить свой гардероб заграничных вещей». «Все время жила безалаберно». «Бывало, раньше мой девиз был «не уступать» – и как много горя я пережила… теперь не то» и т. д.
Меня это возмущало. Я, несмотря на то, что говорил, что Ася по наклонной дорожке пошла, смотрел на нее как на серьезную вдумчивую девушку.
А тут цепь твоих писем. Проверь у себя в памяти – прежде ты мне таких не посылала.
И рядом о «подумывании» о поездке в Ревель для обмундирования, ты пишешь о том, чтобы учиться мастерству белошвейки. Ремесло иметь. Это звучало фальшиво. Меня взорвало в отношении к близкому, родному мне человеку.
Я написал ему свои мысли.
Если я на минуту применил какую-либо фразу к вам вообще, то я был неправ. Признаюсь в этом. А в отношении тебя я имел основания резко реагировать на подобные письма.
Если ты вынесла на обсуждение мое письмо и кому бы то ни было рассказала (тем более папе) – ты поступила нехорошо.
Я с тобой разговаривал в этом письме, а не писал.
Вышло так, что будто бы я непогрешим, а вот ты каяться должна передо мной, твоим наставником. Между тем грешков немало и у меня. В особенности насчет поведения, конечно, Ася, я такой же смертный, как и все вы. Да, Ася, я был слишком резок и груб. Так с друзьями не общаются, в особенности если связей с ними порывать не хотят… Но и ты должна понять, что у меня были основания для такого настроения в отношении тебя (только тебя).
В «иную категорию людей» я себя не ставлю по развитию в сравнении с вами. Это неправда. А политич. убеждения у нас разные – и в этом отношении я принадлежу к другой категории людей, нежели вы. Здесь, конечно, есть большущая разница между нами. И о ней я вправе говорить, несмотря на то, что не прочь (совсем не прочь) покутить… Это не значит, что я себя ставлю выше вас. Отнюдь нет. Я, кажется, никогда не давал повода так думать обо мне. А ты пишешь, будто я себя считаю не простым смертным. Ох, еще каким простым, обыкновенным…
Если я когда-нибудь говорил о разнице между нами, то, снова подчеркиваю, только в области полит. убеждений.
Вот и все…
Если хочешь и можешь, будем считать вопрос исчерпанным…
Если ты считаешь, что хорошие, дружеские отношения не могут восстановиться между нами и ты друга потеряла – тогда вот это мое письмо будет последним.
Если ты в чувствах, переживаниях своих не нащупываешь таких, о которых бы по-родному, по-близкому могла бы поделиться со мной, как когда-то, то, конечно, мы должны прекратить наше общение. Если ты не веришь больше мне, если думаешь, что не так пойму, как хочешь, что у нас слишком разные жизни – тогда точка…
А если можешь, вспомни прошлое, перебери его в памяти, приди ко мне, вспомни наши хорошие минуты – мы ведь могли, бывало, близко-близко слиться – и тогда… ответь на письмо мое тотчас же после получения его…
И ответь уже о настоящем, как будто мы возвратились к старому.
Твой ДузяИса. Между девочками
Иса не умел скрывать своих чувств, но умел их подменять. Смятение – раздражением, страх – отчаянной иронией с агрессивными нападками на собеседника. Не сам Иса подменял, а что-то живущее внутри него и помимо него превращало одно в другое. Внутренняя эта алхимия привела его к успеху у слабого пола, который всегда тянется к заносчивым и жестоким мужчинам с разбитым сердцем. Ведь каждая надеется залечить его раны. Внимание это, конечно, льстило, но лишь на поверхности, ведь внутри у двадцатилетнего мужчины жила постоянная дрожь, необъяснимое беспокойство без повода, без назначения. Ведь не было, не могло быть никакого разбитого сердца. Думая о своих страхах, Иса протаскивал себя через все годы и приводил к порогу первых воспоминаний, за которыми восходила лишь высоченная стена темноты. Временами казалось, что это вовсе не стена, а море – всегда черное, всегда ночное. И что, если ты хочешь получить ответ хоть на какой-то вопрос, ты должен кинуться в это море бесстрашно, переплыть его – и там, на том берегу, где вечный предзакатный жемчужный свет, ты узнаешь все ответы, ты увидишь наяву то, что тревожит в неясных снах. Обычно на этом месте размышления Исы резко прерывались, потому что даже в воображении перспектива плыть в море вызывала в нем ужас, грозящий перерасти в панический взрыв. И чтобы этого не произошло, Иса злился. Злость была универсальным средством борьбы со страхом. Она не лечила, нет. Она подменяла. Теперь еще ко всему прочему, черт возьми, Иса начал бояться воды.
Очень влюбчивый Исаак злился почти постоянно. Или можно сказать так: почти постоянно зло шутил. Испытывая чаще всего странную помесь брезгливости и заинтересованности, он хотел женщин и одновременно презирал их. За что, он и сам не понимал. За податливость, за навязчивость, за слабый ум, за ограниченность желаний – за все. Но вот Ася Гринберг, но вот с Асей Гринберг, но вот об Асе Гринберг… Исе временами казалось, что Ася Гринберг не девушка вовсе, она какое-то иное существо, определить которое словами почти невозможно. Необъяснимо ныло в солнечном сплетении и тряслось что-то между ребрами, будто там кто-то натянул струны, и пело глухой красивой нотой всякий раз, когда Иса смотрел, как Ася Гринберг шла по улице. И злость, рвущая его изнутри, страх, обглодавший, кажется, каждую его косточку, отступали. И делали безоружным. Но Аська дурила ему голову, как и многим другим. В их ряду Иса мог бы запросто затеряться, ведь он был безоружным.
Фаня возникла на горизонте будто бы ниоткуда. Но Иса дураком вроде бы не был – прекрасно понимал, что еврейская родня, супротив английской, хочет женить его на хорошей барышне из провинции. И вот, словно по мановению волшебной воли, является эта самая Фаня – «добрая идишистская девушка из надежной семьи». И если, следуя логике родни, глухая провинция – храм и крепость великих и грозных заповедей, то Фаню можно было смело записывать в комиссары замшелого и отжившего свой век традиционализма.
Фаня уродилась всем хорошей, но всего в ней было мало Исе – и образования, и тонкости, и даже красоты мало. Нужно что-то еще. Что-то еще… Правда, Илюша Трауберг решительно рекомендовал ее, таинственно ссылаясь на свой положительный опыт с этой Фаней, как некогда с Шосей Трошкиной.
Фаня помаячила в Ленинграде, перезнакомилась со всей честной компанией Исы и всем вроде бы понравилась. А почему нет? Доброжелательная и спокойная, она стойко сносила шутки и умела печь пирожки с капустой. Иса был приставлен к Фане для сопровождения в театр или в концерты, а его тянуло на паркет, танцевать с Асей Гринберг фокстрот, чарльстон и танго. От Аси шел умопомрачительный запах, от этого запаха Иса то слабел ногами, то приходил в такую ажитацию, что не мог заснуть ночью. Это не означает, что он не злился на Асю. Она частенько раздражала своими категоричными заявлениями о том, как должно быть уложено в жизни, как должно быть правильно в жизни. Но она так пахла, что бессонные ночи Исы превратились в безумные судороги поллюций.
А Фаня пахла немного унынием, немного кухней и чуть-чуть чернилами, и этого сочетания было достаточно, чтобы в воображении помещать ее не дальше сундука в передней. На этом сундуке Фаня дала себя поцеловать несколько раз и расстегнуть пуговицу-другую на платье. Там же она проявила недюжинную выдержку, когда Иса приложил ее ладонь к своим брюкам. Фаня не смутилась, словно делала это множество раз. Ладонь ее не проявляла ни любопытства, ни самостоятельности, а терпеливо ждала, пока плоть Исы не отвердела настолько, что уже не помещалась под ладонью. А потом Фаня уехала. И на «ты» они не переходили.
3/XII 1925 г.
Сычевка
Вот, Иса, я и в Сычевке. Странно теперь смотреть на маленькие дома, на пустынные улицы, которые освещаются одним тусклым фонарем. Скука здесь ужасная. В 8 часов вечера абсолютно все вымирает. Ни кинематографа, ни театра, ничего. Даже людей в полном смысле этого слова нет. Не знаю, если все время будет такое отвратительное состояние, то, пожалуй, больше недели здесь не пробуду. Приеду обратно в Ленинград.
Иса! Страшно хочется видеть Вас.
Перед отъездом я звонила, но Вас там не было, хотя я позвонила поздно. Хотелось остаться еще на несколько дней, но уже нельзя было. Ведь я из-за Вас просидела в Ленинграде, после присланной из дому телеграммы, целую неделю, если не больше.
В дороге простудилась, два дня пролежала в постели и поэтому не могла Вам написать раньше.
Фотографию пришлю в следующем письме, потому что сейчас все мои вещи у Али, а она уехала, дня через 3—4 приедет.
Как вы живете? Что у Вас нового? Думаю, что Вы скоро напишете.
ФаняИса устраивал Фане выволочки в письмах, которые, если проверить, совпадали то с отказом Аси пойти с ним на танцы, то с резким ударом кольцом по пальцам: «Не смей расстегивать эту пуговицу!», то с ее недомоганием, связанным с месячными кровями, которое сама Ася называла «мои внезапные гости». Все это портило Исе настроение на дни вперед, признаться себе в том, что он всего лишь мужчина, которому некая барышня отказывает, оценив свои интересы выше мужских, он не мог. Физически не мог, одна эта мысль вызывала боль в желудке. Конечно, он нападал:
– Ты, Ася, меня не любишь! – кричит Иса и от морозного воздуха, полоснувшего по бронхам, кашляет.
Ася не отвечает, улыбается.
– Не любишь! Это не любовь, это просто предпочтение.
Ася улыбается – соглашается, наверное.
Иса смотрит на нее и больше не может смотреть. Еще несколько секунд, и он ударит ее – от любви прибьет. Это нельзя – так улыбаться. Иса отворачивается от Аси, стоит некоторое время спиной к ней. Но она не дотрагивается до него, хотя вот она – спина, и плечи, и трогательный Искин затылок. И даже когда он уходит, она не пытается его остановить. Уходи, Иса. Пожалуйста, Иса. Иса уходит.
Фаня этого всего не знает, исправно пишет, пытаясь найти разумное объяснение поведению своего переменчивого корреспондента.
Иса вертит в руках конверт из Сычевки и, еще не зная содержания письма, раздражается заранее. Раздражается даже тому, чему, казалось бы, нужно радоваться – в прошлый раз она неверно написала его фамилию, и он не спустил, указал на это. Теперь Фаня выправилась, во всяком случае, на конверте все было указано точнехонько, и прицепиться Иске было не к чему, если только не к почерку Фани, который нервирует только потому, что это почерк Фани.
7/XII 1925 г.
Сычевка
Иса! Простите за неправильно написанную фамилию. Поверьте, что это была только ошибка. И Вы, так же как и были, останетесь не Минакером, а Менакером. И беспокоиться об этом не стоит. Про маленькие дома, про тусклые лампочки я писала вовсе не с той целью, что бы Вы меня «немного пожалели» и выслали в Сычевку лампочку в 1000 свечей и построили для «меня специально целый ряд больших домов, когда разбогатеете». Уж не настолько я глупый ребенок, чтобы мне писать такую чепуху.
Советы Ваши насчет «послушных дочерей» можете оставить для кого-нибудь еще. И какая я дочь есть по отношению к моим родителям, это мое дело. Потом, что за глупости Вы пишете о бумаге, «предусмотрительно» мной не исписанной? Какая ерунда! Просто не обратила внимания на клочок оставленной бумаги. Мне прямо дико. Честное слово, Иса, это непохоже на Вас!
Советовала бы Вам еще поискать в моем письме грамматических и синтаксических ошибок, тогда еще больше могли бы растянуть свое письмо. Поверьте, Иса, что хотя Ваше письмо и очень большое, но по содержанию не лучше моей «писульки» (как Вы назвали мое письмо). Если из Вашего письма вычеркнуть все Ваши насмешки и наставления, то в нем не останется и одной целой страницы.
Да, что смешного Вы нашли в слове «страшно», которое было написано в моем первом письме и которое вы подчеркнули двумя чертами в своей фразе: «Мне тоже страшно хочется Вас видеть»? Вы мне это, конечно, объясните.
Очень неприятно, что у Вас только за «последнее время» появилось желание повидать меня. Вы даже об этом пишете, как о новости: «Нового у меня ничего нет, разве только то, что за последние дни появилось желание, если не повидать Вас, то, по крайней мере, получить фотографию». Это Ваши подлинные слова. Спасибо за откровенность. Это очень хорошая черта.
Очень скверно, что у Вас неудачи со службой, а вот еще и пальто потеряли. Как, как можно было потерять пальто?! Но ничего, Иса! Не унывайте, женитесь на богатой (Вы как-то сами говорили, что ищете богатую невесту), тогда будет и новое пальто, и не нужно будет заботиться о службе. Было бы очень хорошо, если б у Вас сейчас оказалось в наличности «свободное время» (а то ведь вы человек очень занятой), чтоб вы мне написали. Только не нужно забывать, что Вы пишете не такому уж «глупому ребенку». Поверье, что этот ребенок тоже что-нибудь да смыслит. А Ваше письмо оскорбительно не только для чуть смыслящего человека, даже для самого глупого. Надеюсь получить не такое письмо, как первое. Постарайтесь, Иса, написать как можно поскорей. Я очень нетерпеливая на письма.
Скука ужасная, настроение отвратительное. Единственное развлечение здесь зимой – коньки. Днем каток, а вечером сиди и зевай. Читать надоедает и деться абсолютно некуда. С удовольствием посидела бы сейчас в Вашей «тусклой комнатке». Да не тут-то было. Ничего! Немного потерплю, а потом опять прикачу в Ленинград. Аля еще не приехала, а потому фотографию прислать пока не могу. Пришлю после.
Желаю успеха по пути к службе, а если это не удастся, то в поиске богатой невесты.
Жду письма, Фаня«Женитесь на богатой»! Это кого она имеет в виду? Конечно, себя. Да, он умудрился оставить пальто в Летнем саду, бросил на скамейку под себя и под нее, чтоб не холодно было сидеть, и забыл – встали, пошли заболтавшись, пальто осталось на скамейке под не слишком бдительным взглядом мраморной аллегории Мореплавания. Ну и что?! Какое до того дело посторонней девушке?! Ах да, он сам ей написал об этом. И, не имея возможности описать последующее, ограничился обычным ворчанием.
Он не писал о том, как они спохватились возле Михайловского замка, потому что даже в толстом лыжном свитере Иса стал заметно трястись от холода. Смеясь, они бегом вернулись в сад, но рассеянная «мадам Навигаторша» не уберегла Искино пальтишко, кто-то успел уже прибарахлиться за счет Исааковых английских родственников – ведь именно их манчестерской мануфактуры сукна было построено ладное изделие.
Тогда Ася погрозила пальчиков статуе и сказала:
– Не хорошо себя ведете, мадам, обидели моего Исаньку.
От «моего Исаньки» и Исы какой-то пузырек в сердце лопнул – стало тепло и страшно. Но потом она свернула к шутке, как пьяница к трактиру, и тепло в сердце всосалось в страх божий.
Положение Исы непоправимо – так считает сам Иса. Невеста есть, и даже богатая, но вот беда, кроме него самого, нет ни единой души, кто бы считал Асю хоть сколько-нибудь подходящей партией для голоштанного студента-киношника, подрабатывающего в галантерейном магазине. Фаня всего лишь ядовито пошутила, но попала в болезненную точку.